 Неудобный хам. Почему на самом деле СССР победил ГерманиюОтвет на этот важнейший вопрос десятки лет давали, исходя из политических соображений. Сначала это были «преимущества социалистического строя». Потом, когда он развалился, причиной назвали «героизм и патриотизм народа» — который, несомненно, был, как и у множества народов от начала веков, но сам по себе еще ни разу не выигрывал войны. Реальные причины советской победы все это время оставались в стороне. А прояснить их очень даже стоит: сделай мы это раньше — и многие войны после Второй мировой прошли бы куда быстрее и легче. Советская Россия: Давид на фоне немецкого ГолиафаСовременному человеку непросто представить, но любой сторонний наблюдатель, глядя на Германию и СССР в 1939 году, вряд ли поставил бы на выигрыш Москвы в войне против Берлина. Никто и не ставил: в 1941 году все были уверены в быстрой немецкой победе до такой степени, что англичане, предложив советской стороне как бы союз, уже 23 июня начали спешно составлять планы бомбежки Баку, поскольку ожидали его скорого и неизбежного захвата немцами. Так же думали американцы и все остальные. И не просто люди с улицы — разведки, главы государств, кто угодно. Вернемся в наши дни и спросим человека на улице: отчего же СССР победил, где ошиблись западные разведки, армии и правители? Наиболее информированные ответят: у Москвы было намного больше солдат и оружия. Немудрено, что Германия проиграла. Некоторые историки, например Алексей Исаев, говорят по сути то же, только терминологически изящнее: Советский Союз проводил перманентную мобилизацию, а Германия до 1943 года пыталась воевать без нее, из-за чего ее поражение и было неизбежно. Человеку предвоенного периода эти слова показались бы дикостью. На 1913 год Российская империя имела 175 миллионов человек, Германия — 68 миллионов (2,6 к 1). СССР, битый многократным голодом, перед началом войны имел 195 миллионов, немцы — 80 миллионов, и это в границах 1939 года, без учета военных приобретений (2,4 к 1). То есть разрыв между нашими странами по населению даже сократился. Если бы в 1914 году Германия воевала на суше только с Россией, она бы ее практически наверняка разгромила. Нашей стране в ту войну и так было непросто — хотя лишь меньшая часть армий ее врагов воевала на Востоке. Причины очевидны: в XX веке победу не добывали числом людей. Без превосходства в оружии и снарядах вас разобьют, даже если у вас будет по пять солдат на одного у врага. А промышленное превосходство Германии над нашей страной в этот момент было неоспорим, куда больше, чем 20 лет спустя. Это правило Первой мировой во Вторую стало еще жестче: война моторов требует превосходства в промышленном производстве. А здесь еще до 22 июня все было для нас так себе: немцы плавили больше стали, больше чугуна. По производству моторов СССР уступал Германии в пару раз. Иначе и быть не могло: Германия была самой промышленно развитой страной Европы, а СССР — страной с большими экономическими проблемами. Когда граждане писали в ЦК накануне войны: «у детей наблюдается сильное истощение» — они не шутили. Вы не можете догнать кого-то по производству моторов или стали, когда вашим детям нечего есть.  Из-за той же нехватки продовольствия СССР должен был держать огромное число людей в деревнях ( 49,3 миллиона занятых), иначе хроническое недоедание населения перешло бы в голод с постоянной депопуляцией. На промышленных рабочих оставалось меньше, чем у немцев (13,7 миллиона у нас и 15,1 — у них). Как ни изворачивайся, а меньшее число рабочих означает, что и продукции от них будет меньше. А если у вас дефицит оружия, то перманентная мобилизация не поможет: призыв людей, которых не прикрывают пушки и танки, просто не повлияет на боевые действия. Экономика сказывается не только на вашем промышленном выпуске. Если в 1900 году немец и русский в среднем были одного роста, то к 1941 году средний рост первых стал на шесть сантиметров больше. Все советские военачальники единодушно оценивают красноармейцев как весьма слабых физически на фоне немцев, что создавало большие проблемы на войне. Давид был ниже Голиафа даже физически. Все дело в преимуществах социалистического строя?Если мы откроем книги о войне, выпущенные при СССР, там этот вопрос решали очень просто. Партия большевиков разумнее распределяла ресурсы: у нас на военные цели шла намного большая доля промвыпуска, чем в Германии. На графике выглядит стройно и логично, но если чуть подумать, стройность рассыпается. В 1940 году Германия участвует в мировой войне, а мы — нет, но доля военной продукции у нас выше. Это как? 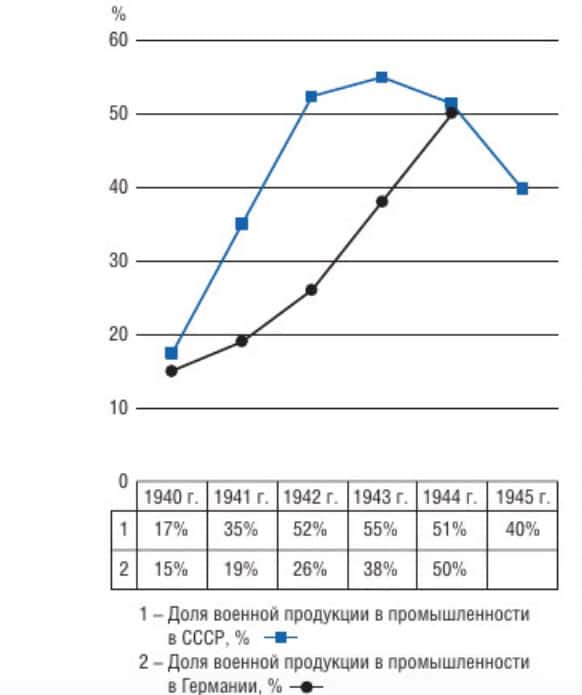 Другой вопрос: капиталистический строй не знал, что во время войны промышленность должна работать в основном на войну? Судя по графику, все-таки догадывался: ведь в 1944 году немцы дошли до того же уровня милитаризации экономики, что и мы. А в Первую мировую, при все том же капитализме, они и вовсе сделали это в первый год войны. Так почему во Вторую мировую это случилось с ними только в 1944-м, а не во второй половине 1941-го, как у нас? Серьезный историк не может воспринять версию о социалистическом строе как причине победы: на графиках видно, что в 1944-м немцы обошли нас в общем выпуске вооружений. В том же году мы выстрелили по ним 0,7 миллиона тонн снарядов и мин, а они по нам — миллион. Нетрудно обратиться к немецким источникам и узнать: Гитлер просто не начинал мобилизацию ВПК до 1 января 1942 года, воевал с экономикой мирного времени. Не делал он этого по очень простой причине: русские в его глазах были слабым варварским государством, или, говоря языком XXI века, «Нигерией, только со снегом». Любой читатель может ознакомиться с этой точкой зрения и сегодня, достаточно просто полистать западную прессу. Но Гитлер шел дальше этой идеи и прямо сообщил своим военным: у русских гнилое государство, которое достаточно пнуть, чтобы оно развалилось. А вот каким оно станет завтра, он не знает. Поэтому пинать надо как можно быстрее. Из этого следует: Германию победил совсем не социалистический строй. Немецкие ошибки, связанные с отсутствием вменяемой разведки в России, никак не связаны с социализмом. Иначе нам пришлось бы списать на социализм и аналогичные провалы Карла XII и Наполеона. Но и приписать победу традиционному западному высокомерию относительно славянских унтерменшей — белых нигерийцев тоже нельзя. Ведь хотя СССР еще до войны был милитаризован сильнее Германии — и до 1944 года она не могла его в этом отношении догнать, но немцы вполне громили его армии и в 1941-м, и в 1942 годах. Немцы за первые 14 месяцев войны зашли на нашей стороне границы даже дальше, чем мы смогли зайти на их стороне границы в последние 14 месяцев войны. Следовательно, колоссальная недооценка способности русских воевать не помешала немцам побеждать настолько сильно, что будь наша страна размером с их — они бы ее завоевали. Значит, причины советской победы лежат не только в высочайшей милитаризации общества и большом производстве качественного оружия и боеприпасов. Это условие было необходимым, но никак не достаточным. Достаточное условие нужно найти где-то между 22 июня 1941 года и переломом во Второй мировой. Что же это? Чтобы понять перелом на фронте, надо следить за фронтомУспех в длительной войне определяется не тем, сколько у вас оружия и людей и сколько их у противника. Он определяется тем, насколько быстро вы и противник их теряете. Тот, кто делает это быстрее, становится слабее относительно своего врага. Тот, кто медленнее, выигрывает. Если мы взглянем на советско-германскую войну с этой точки зрения, то заметим, что она разбивается на три принципиально разных периода. Первый начался 22 июня 1941 года, и формально на тот момент Красная армия в несколько раз превосходила немецкую по танкам и самолетам. Но и потери несла настолько большие, что к концу 1941 года немцы более чем обогнали ее по этому параметру. Скажем, танков во всем вермахте на 22 июня было 5,6 тысячи, у РККА — больше 22 тысяч (1 к 4). А на 1 января 1942 года — 5,5 и 4 тысячи (1,4 к 1). Соотношение сил изменилось кратно, а непосредственно на фронте иной раз вообще поменяло знак: две тысячи танков и САУ в действующей армии с нашей стороны были даже меньше, чем пара с небольшим тысяч исправных немецких машин. Для оценки убывания или роста боеспособности армий недостаточно смотреть на одну технику. Если у вас в тылу танки штампуют в бешеном темпе, но вы теряете танкистов в не менее бешеном темпе, то формальное число танков, может, и будет большим. Но воевать их экипажи будут уметь довольно ограниченно. Поэтому оценить динамику войны точнее всего можно по безвозвратным потерям в людях (убитые + пленные). С начала войны и по конец сентября 1941 года РККА потеряла так около двух миллионов, за октябрь — декабрь — еще 0,9 миллиона. Вермахт и СС, соответственно, ~0,2 и 0,12 миллиона. Важно помнить, что кроме вермахта и СС у немцев были и иные части, поэтому на практике эти цифры их потерь надо умножить на 1,1. Иными словами, до конца сентября немцы безвозвратно теряли одного человека на девятерых с советской стороны. А с 1 октября — уже лишь одного к 7,5. С другой стороны, из советских данных мы убрали цифры умерших по болезни, от несчастных случаев и расстрелянных по приговорам трибуналов (0,15 миллиона за квартал), хотя у немцев этого не делали, поскольку для них все эти цифры несопоставимо ниже. В 1942 году ситуация вроде бы улучшилась — 0,64 миллиона русские потеряли в первом квартале, 0,82 во втором, 1,17 в третьем, 0,48 в четвертом. От 15 тысяч безвозвратных потерь в сутки примерно до восьми тысяч. В 1943 году (на графике) они даже слегка растут, в 1944 и особенно 1945 годах — падают.  Перед нами ключевой график для понимания всей истории войны на Востоке. Здесь соотношение потерь приведено с повышением немецких цифр на десять процентов, чтобы учесть потери люфтваффе и иных формирований, не входивших в вермахт и СС На графике хорошо видно, что война с Германией имела три ключевых перелома: зимой 1941-1942 годов, поздней осенью — зимой 1942-1943 годов и летом 1944 года. Мы подробно разбирали каждый из этих эпизодов: речь о Московской битве (с того момента, когда ее с советской стороны возглавил Жуков), Сталинградской битве (после перехода в контрнаступление) и операции «Багратион». Установив с помощью цифр потерь сами «переломы» в ходе боев войны, нам осталось выяснить только одно: что к ним привело? «Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно»Главным препятствием на пути к пониманию как военной истории, так и современных войн, в наше время стало непонимание сути войны. Мы часто слышим: «нет ума — штурмуй дома», но никогда не слышим: «нет ума — сдавайся тогда», хотя вторая фраза по сути куда точней. Иными словами, войну и вооруженное насилие воспринимают как нечто простое. Разрушение с помощью оружия и солдат, всего лишь функцию от числа того и другого. Реальная военная история имеет с этим мало общего. Гитлер в мае 1940 года во Франции имел меньше оружия и солдат, чем англичане и французы. СССР в 1941 году провел через армию в разы больше людей и оружия, чем Германия. Ни там, ни там это число не дало победы — и таких примеров тысячи.  Настоящая война (в отличие от индивидуальных боев) — это состязание умов полководцев. Французы и англичане в 1940-м не понимали, куда ударят немцы и как будут вести наступление. Красная армия вообще встретила 22 июня, даже не осознавая, что немцы в принципе по ней ударят. Их поражения стали результатом проигрыша умов, а не танков или солдат. Абсолютно аналогично понесла поражение в войне с СССР и гитлеровская Германия. С самого 22 июня ( «Директива №2») и до 30 сентября 1941 года верховный главнокомандующий вел войну с Германией в одной стилистике: контрудары. Он никогда не делал ключевую ставку на оборону. Так происходило потому, что Сталин, будучи не военным, а политическим лидером, считал наилучшей формой борьбы удары по противнику, когда тот уже перешел в наступление, когда он пытается что-то захватить, но еще не остановился, еще ведет наступление, не сидит в окопах. Ему казалось, что этим он снизит число городов и территорий, которое теряет, и при этом избежит такой сложной формы деятельности, как наступление на обороняющегося (в окопах) противника. При нормальном ведении боевых действий профессиональные военные должны были бы объяснить вождю, что в армии тот путь, который кажется самым легким, редко бывает таким на практике. А то, что кажется самым тяжелым, часто самым коротким путем ведет к победе. И Георгий Жуков летом 1941 года про это Сталину и говорил. Не надо, подчеркивал он, пытаться удержать Киев — он в невыгодном положении. Следует отвести войска за Днепр, готовиться к обороне. А контрудары наносить только тогда, когда есть время для их нормальной подготовки. Политику морально очень тяжело слышать от начальника Генштаба слова «Киев придется сдать», поэтому после таких предложений Жуков с поста вылетел.
Командиры фронтов вроде Конева и ряда других Сталину не противоречили, Киев оставить не рекомендовали (пока их там не окружили, из-за того что они оттуда вовремя не ушли, конечно). Работать с ними поэтому было проще, но вот беда: нанося неподготовленные контрудары по наступающим немцам, как требовало главное командование, они постоянно проваливались. Гудериан замыкал Киевский котел с севера — генерал Еременко лично обещал Сталину разбить Гудериана на этом маневре контрударом во фланг. В итоге, как и можно было ожидать, разгромили Еременко и Красную армию в котле южнее. В котле, который замкнули гудериановские танки. Аналогичная ситуация сложилась на севере — на Ленинградском направлении. Как мы уже писали, стремление Красной армии и там удерживать все, ничего не оставлять без боя и «останавливать немцев контрударами» привело к тому, что линия фронта сильно растянулась, и немцы обошли места, за которые русские отчаянно бились, с флангов. Ленинград в итоге блокировали, и тут Сталин по-настоящему запаниковал. Снятый несколько недель назад Жуков был направлен туда командующим фронта. Георгий Константинович в сентябре 1941 года прибыл на место, тут же прекратил плохо подготовленные удары на своем участке и стал просто стягивать все имеющиеся у него силы к остриям танковых клиньев немцев. Ничего прорывного — все «просто и доступно среднему уму», но сделать это на практике сложно. Потому что нужно думать как противник, отслеживать движения его войск воздушной разведкой и так далее. Жуков справился, Ленинград не пал, хотя местные немецкие командиры на это рассчитывали. Сталин не просто был впечатлен: в этот момент произошел перелом в его взглядах на Жукова. Он перестал видеть в нем просто неудобного хама всегда со своим мнением и всегда со своим невыносимым зазнайством. И начал видеть в нем хама, способного на большее, чем генералы, которые не хамят. Это стало первым шагом в первом стратегическом переломе. Первый перелом графика: Москва и ее последствияПоэтому когда 30 сентября немцы двинули на Москву, главком быстро выдернул Жукова со стабилизировавшегося фронта под Ленинградом и послал что-то решать на московском направлении. Жуков прибыл в момент, когда командное шапито, управлявшее Красной армией здесь до него, уже прогорело: командиры фронтов вроде Буденного бежали от линии фронта в одно место, их штабы — в другое, и вторые буквально не знали, где находятся первые. А равно, конечно, и где лежит линия фронта. Жуков поездил по местности на автомобиле, устанавливая глазами, где противник. Выяснилось, что тот уже окружил основную часть сил фронта, о чем он и сообщил Сталину. Тот назначил его командиром условно существующего Западного фронта и стал подбрасывать новые резервы — но в малых дозах. С огромным трудом Жуков повторил ленинградский сценарий: концентрировал малые поступающие силы точно на острие немецких клиньев, внимательно следя, куда идут немцы, и долго думая над тем, куда бы на их месте пошел он (что не менее важно, чем потреблять данные разведки). Это сработало: к концу ноября немецкое наступление превратилось в самоизматывание. Немецкие части так ослабли от ударов лбом в советскую оборону, что ограниченные по замыслу контрудары Жукова неожиданно превратились в целое контрнаступление на 100 с лишним километров: немцы просто бежали дальше, чем советский комфронта от них ожидал. Первый перелом начался: с 5 декабря 1941 года Красная армия наступала. В первом квартале 1942 года немцы оклемались и остановили ее наступление, но соотношение потерь все равно изменилось с 1 к 9 до 1 к 4. Жуков своими действиями на западном направлении совершил революцию в соотношении потерь.  Но его успех принес и семена следующего поражения Красной армии. Сталин не просто уверовал в способности Жукова, но и решил, что ход войны уже развернулся. Причем он не понял, что это произошло просто на правильных решениях строптивого генерала: главкому показалось, что немцы уже исчерпали себя из-за огромных потерь. Здесь неверно винить одного Сталина: дело в том, что армейские сводки немецких потерь были немыслимо завышены. Реально немцы за полгода войны потеряли безвозвратно треть миллиона, а в Кремль донесли про несколько миллионов, о чем тот сообщил официально. Естественно, если бы эти цифры имели отношение к реальности, то немцев зимой-весной 1942 года надо было гнать любой ценой, не считаясь с потерями, просто потому что они не могли бы удержать Красную армию. Однако Сталин, никогда не служивший в армии, не понимал, что армейские инстанции хронически дезинформируют его о потерях противника. Поэтому, приказав продолжить наступления сразу на всех стратегических направлениях, — вопреки сопротивлению Жукова, считавшего, что силы распылять нельзя и наступать можно только в одном месте, — главком заставил Красную армию сделать больше, чем она могла. Если на центральном фронте его войска просто кроваво тыкались (недостаточными силами) в немецкую оборону, то под Харьковом советские наступающие силы попали в окружение (четверть миллиона безвозвратных). В Крыму пытавшиеся наступать советские части нарвались на контрнаступление Манштейна (0,17 миллиона безвозвратных). При попытке деблокады Ленинграда на севере в окружение загнали Вторуюу ударную армию Власова. Итого: уже во втором квартале 1942 года соотношение потерь вернулось к 1 к 8. Вдвое хуже, чем в первом квартале. Второй перелом графика: Жуков и Василевский, плюс ЧуйковВ третьем квартале 1942 года немцы наступали на юге: большие потери весны плюс отсутствие нормального управления обороной а-ля Жуков не давали Красной армии на этом направлении их остановить. Попытки предпринимались, но опять в формате контрударов, отчего Воронежский, например, фронт, поставил мировой рекорд того года, утратив 2,4 тысячи танков за месяц. Общее соотношение потерь за квартал составило 1 к 7. Сталин все так же продолжал отвечать на самые болезненные немецкие прорывы попытками контрударов. Когда Паулюс вышел к Сталинграду, поставив под угрозу поставки нефти из Баку в центр страны, РККА опять предприняла неработающие, но исключительно кровавые удары по немецким клиньям, вместо того чтобы направить те же силы на оборону того, что еще не было утрачено. И Жуков, как представитель Ставки, был среди тех, кто подгонял местных командиров: скорее, с контрударами надо торопиться. После войны он оправдывал свой шаг тем, что боялся: Сталинград без контрударов не удержать, ведь железная дорога в город после удара Паулюса была перехвачена.  К его чести, военачальник осознавал, что эти удары мало чего могут. Он и Василевский (начальник Генштаба) 13 сентября предложили Сталину другой вариант. Не бросаться очертя голову на клин, а ударить сильно к северу и югу от него, где у немцев сил мало. Окружить клин, а не бить по нему почти в лоб (план «Уран», первый вариант). Здравую идею начали осуществлять: создали Донской фронт, поставили на него одного из лучших советских командиров, Рокоссовского. Но помешала все та же спешка: в конце сентября немцы начали еще один штурм Сталинграда, и Рокоссовского от окружения немцев переключили на все те же кроваво-бесполезные контрудары по немцам рядом со Сталинградом. «Лоб в лоб по клину» вместо отрезания клина. Конечно, ничего из этого не вышло. Сталинград в итоге устоял за счет грамотных решений нового командира 62-й армии Чуйкова, который успешно оборонялся новыми методами, хотя и получал вдвое меньше сил, чем напрасно контратаковавший Рокоссовский. 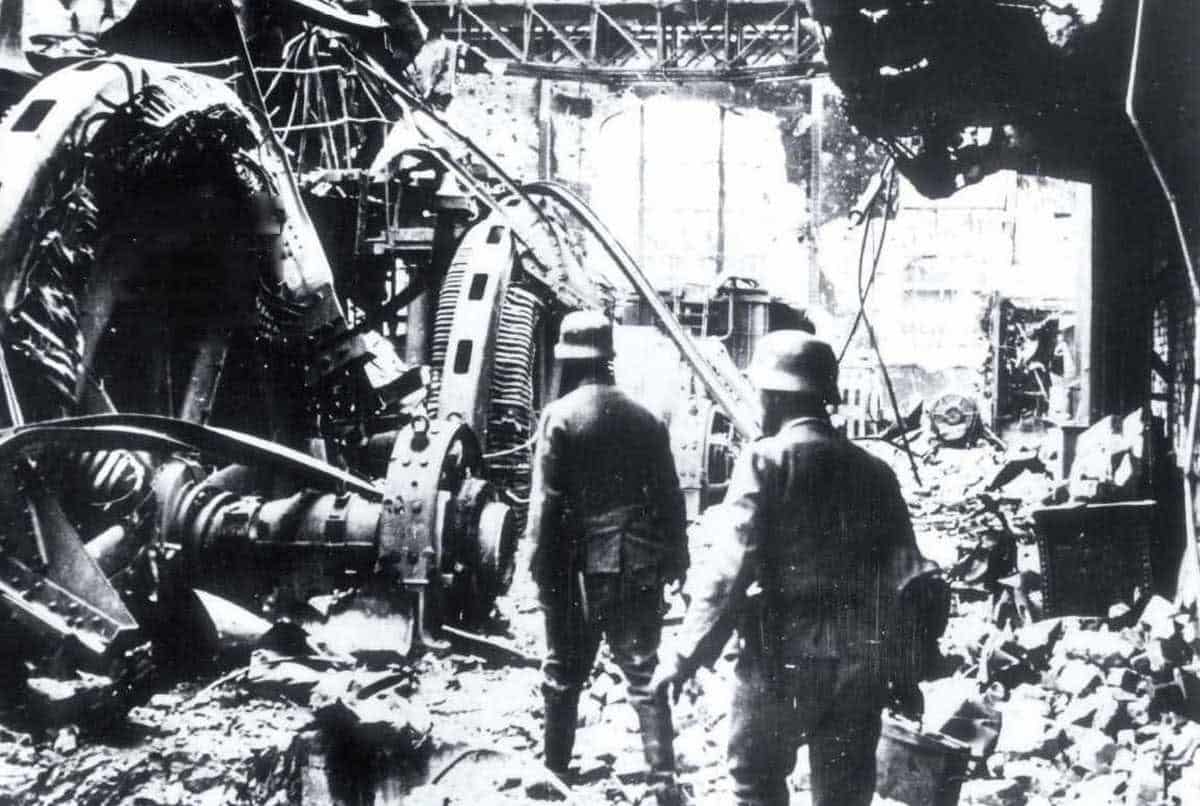 К концу октября Ставка и Жуков заметили две вещи: от их контрударов фронт никак не менялся, а люди Чуйкова, напротив, отлично держались. Тогда «Уран» снова пустили в реализацию — теперь уже Юго-Западным фронтом, во главе с Ватутиным. Тот ударил с севера 19 ноября 1942 года, Сталинградский фронт — с юга, и случился второй резкий перелом на графике. В третьем квартале года советская сторона теряла семь солдат на одного немца, а в четвертом — уже только трех.  Наступление, начавшись под Сталинградом, неслось далее, и в первом-втором кварталах 1943 года соотношение потерь впервые дошло до 1 к 2. А РККА на короткое время вышла к Днепру. Но и здесь оценить точно происходящее не вышло. Сталин опять не вполне понял, что было причиной успеха на юге — и оттого решил повторить его на севере (операция «Марс» к западу от Москвы). Чуйков оттянул успешной обороной все резервы немцев под Сталинградом на себя, отчего советские удары на флангах били почти в пустоту. Под Москвой не было ни Чуйкова, ни немецкого наступления, поэтому советские удары были парированы немецкими резервами. Этого можно было избежать, перебросив колоссальную танковую группировку Красной армии под Москвой на юг, где сплошного фронта зимой 1942-1943 года по сути не было. И там они могли бы нанести куда более результативные удары. Но, как мы уже отметили, Сталин не понимал до конца, почему удары на юге успешны, поэтому не осознавал, что повторить их на севере не удастся. В центре советско-германского фронта прорыв не вышел, а на юге, без мощных резервов, порыв РККА выдохся, и Манштейн отбросил силы русских на восток на украинском направлении. 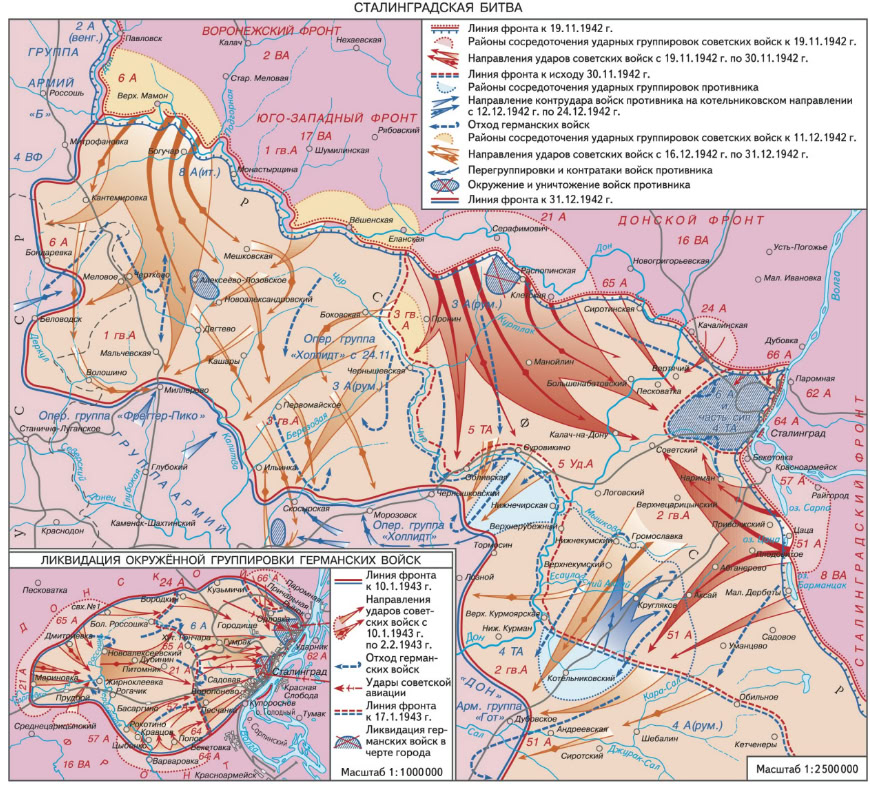 Дальше Жуков решил скопировать сталинградский рецепт успеха под Курском: дать немцам истощить себя наступлением. А потом ударить им по флангам. Увы, то, что успешно единожды, не всегда срабатывает дважды, потому что противник иногда тоже может учиться. Немцы не стали месяцами биться в советскую оборону на Курской дуге, как бились в Сталинграде, поэтому в Курской битве соотношение потерь снова ухудшилось. Потянулись долгие месяцы боев при соотношении потерь три к одному. РККА поливала землю кровью и усеивала своими и чужими горящими танками (но своих теряла куда больше). Наступление не затухало в основном потому, что советский ВПК с 1942 года работал на всех оборотах, а немецкий, начав мобилизацию в январе 1942 года, на эти обороты еще не вышел. Третий перелом: «Багратион»Так шло до лета 1944 года, пока Красная армия не совершила третье чудо войны: за счет применения передовых форм борьбы не просто ввела немцев в заблуждение о направлении главного удара, но и смогла прорвать их оборону много глубже и дальше, чем ранее (о причинах мы подробно писали здесь). Этот перелом впервые уравнял советские и немецкие безвозвратные потери в войне: затыкая дыры на белорусском направлении советского наступления, Германия не смогла удержать и фронт на юге (Румыния и Украина) и севере (Прибалтика). 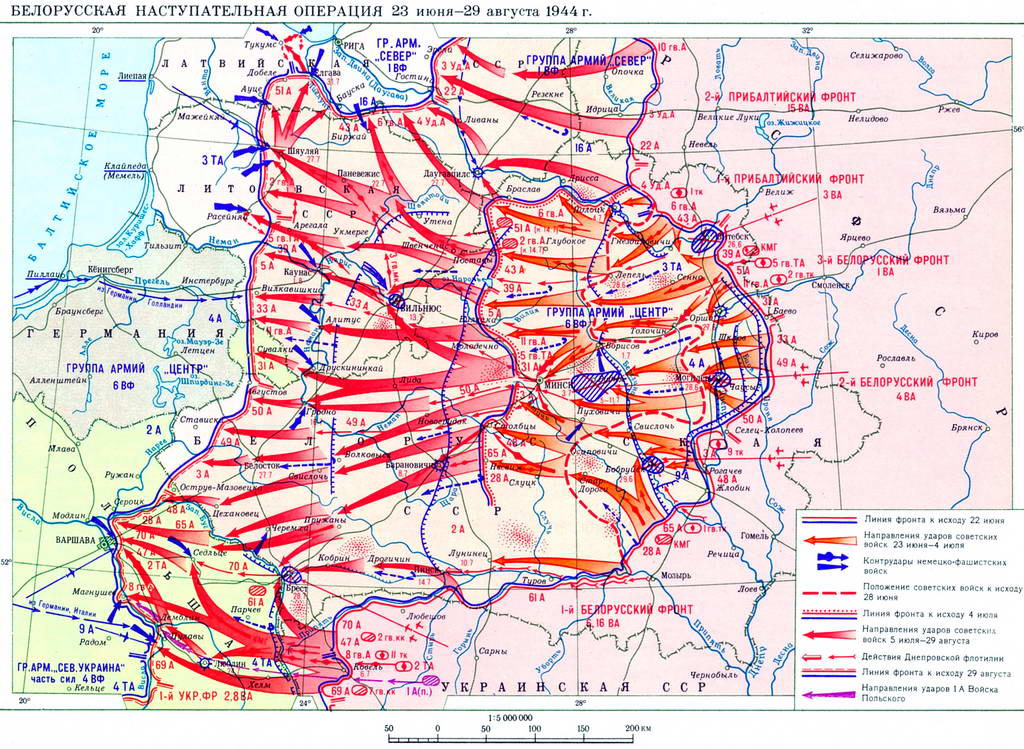 Этот третий скачок в соотношении потерь имел исключительное значение. Дело в том, что к лету 1944 года милитаризация промышленности в СССР и Германии наконец сравнялись. Соответственно, оружия и боеприпасов немцы комплексно начали делать больше. К концу 1944 года дело дошло до немыслимого: разрыв в числе танков стал меньше кратного. Если бы не резкий перелом в соотношении потерь летом 1944 года, немецкие солдаты с опытом боев 1941-1943 годов получили бы достойное количество техники. Это неиллюзорно угрожало стагнацией на фронте, что было крайне опасно. «Багратион» и одновременные с ним советские удары в других местах, плюс высадка союзников в Нормандии впервые довели немецкие потери за квартал до 0,93 миллиона — огромной цифры, на уровне потерь Красной армии в четвертом квартале 1941 года.  Новая техника к немцам стала поступать быстро. Но посадить в нее удавалось уже только на скорую руку обученных призывников: кадровая армия Германии износилась об РККА. Перелом в войне был завершен, и к концу лета 1944 года немцы по сути уже проиграли войну. Ради чего мы все это узналиПричины победы СССР в войне теперь достаточно ясны. Начав конфликт игнорированием разведданных о нападении, главком постепенно (к Сталинграду) научился слушать лучших среди своих военных и понимать их. Не всегда идеально, но все же и этого хватило, чтобы перейти от войны с колониальным соотношением потерь в 1 к 9 или 8 к хотя бы 1 к 3. Одновременно немецкие генералы эволюционировали умственно слабо и не понимали, что теперь уже им, а не РККА надо отказаться от частых контрударов с недостаточными силами и сконцентрироваться на обороне. Поэтому к 1944 году они подошли с очень бедными резервами в глубине, да еще и без понимания того, где эти резервы на самом деле нужны (в Белоруссии, а не на Украине, где немцы их держали). Катастрофа 1941 года теперь произошла наоборот: немцы стали нервничать, тыкать слабо подготовленными, но частыми и изнурительными для себя ударами куда попало. СССР, напротив, начал наносить удары реже, но зато более подготовленными — и с долго накапливаемыми резервами. Попросту говоря, советское стратегическое руководство во время войны выросло над собой — и выросло очень сильно. Тот же Жуков, крайне нервно общавшийся со Сталиным во время войны — и тот признавал это в мемуарах. А вот о немецком стратегическом руководстве такого не скажешь. И это несмотря на то, что исходно в военном отношении оно было компетентнее Сталина.  У Гитлера так и не нашлось человека, к которому он бы прислушивался достаточно, чтобы, говоря словами Жукова, не пытаться действовать «как можно быстрее», копить силы, наносить удары только с холодной головой и после длительной подготовки. Если удары Гитлера в мае 1940 года или в начале «Барбароссы» буквально разрушали кадровые армии его врагов, то к 1944 году он мог лишь пускать им кровь — но никак не уничтожать. Казалось бы: не слишком ли мы увлеклись прошлым? Кому какая разница, что войну СССР выиграл не за счет преимуществ социалистического строя или «бесконечных ресурсов», по которым он на самом деле уступал немцам? Отчего вообще важно, что это было сделано за счет небыстрого обучения главкома, вычленения им из военной среды лучшего профессионала и внимательнейшего учета его мнения по вопросу о том где, как и когда надо наступать? Любой внимательный наблюдатель из 2025 года легко ответит на эти вопросы. Несложно заметить, что крупнейшие военные конфликт XXI века мы начали, явно не учитывая особенности нашего противника — как некогда не учитывал его Сталин, из-за чего мы и встретили войну с явно недостаточными силами. Ясно и то, что военные руководители первых месяцев принимали не самые оптимальные решения, и их замена осенью 2022 года была более чем оправдана. Корни победы 1945 года наглядно показывают: природа войны не меняется. Решения, отделяющие победу в ней от поражения, в главном остаются одними и теми же. Политику еще до начала конфликта следует заранее выяснить, кто из его военных хорош не только в мирное время, держать его под рукой и внимательно слушать. Причем сделать это получится, только если глава государства готов глубоко вникать в военное дело лично. Иначе он не сможет отделить плохой совет вежливого генерала мирного времени от хорошего совета генерала-хама, годного только для военного времени. Мнение автора статьи может не совпадать с мнением редакции. | ↑ |
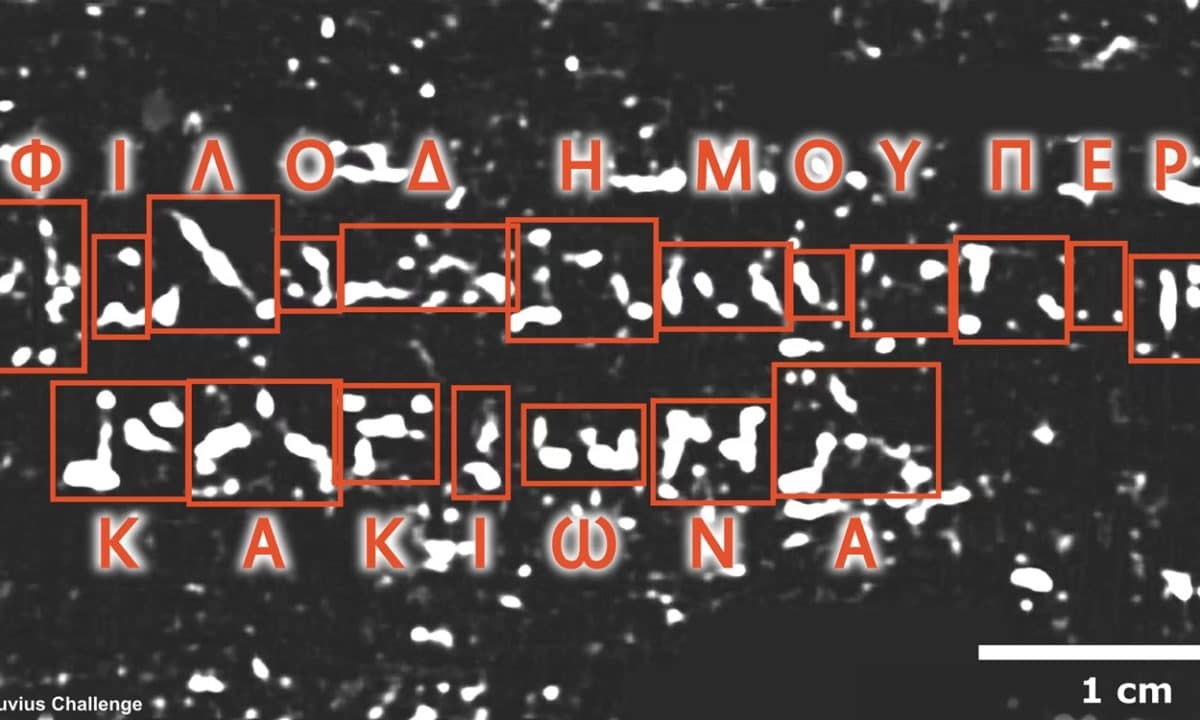 Раскрыт автор древнего свитка, пережившего извержение ВезувияБританские ученые прочитали обугленный свиток, пролежавший почти две тысячи лет под пеплом Везувия, не разворачивая его. Исследователи узнали имя автора труда и название. В 79 году извержение Везувия уничтожило города Помпеи и Геркуланум. Последний, расположенный ближе к вулкану, накрыло пирокластическим потоком — смесью раскаленного газа, пепла и камней. Под слоем лавы оказалась роскошная вилла, которую историки связывают с тестем Юлия Цезаря — Луцием Кальпурнием Пизоном. В библиотеке виллы хранились сотни античных свитков, однако из-за воздействия высоких температур тексты сильно пострадали. В XVIII веке археологи нашли эти артефакты, но попытки развернуть хрупкие папирусы заканчивались неудачей — они рассыпались. Большинство свитков передали Национальной библиотеке Неаполя, а три экземпляра попали в Бодлианскую библиотеку Оксфордского университета. Десятилетиями ученые мечтали прочитать тексты, но технологии не позволяли сделать это без физического контакта. Прорыв случился в июле 2024 года, когда свиток под номером PHerc.172 отсканировали с помощью британского источника синхротронного излучения третьего поколения Diamond Light Source. Мощное рентгеновское излучение выявило следы чернил на обугленном папирусе. Исследователи из Оксфорда и Университетского колледжа Лондона создали цифровую 3D-модель свитка и «развернули» его виртуально, написало издание The Guardian со ссылкой на исследователей. Первыми проступили древнегреческие буквы. Слово «отвращение» встречалось в тексте минимум дважды. Дальнейший анализ показал: перед учеными — часть многотомного трактата «О пороках», написанного философом-эпикурейцем Филодемом из Гадары в I веке до нашей эры. Филодем — греческий философ, поэт, последователь Эпикура. Сперва учился в Афинах под руководством Зенона из Сидона, затем переехал в Италию: сначала в Рим, а позже в Геркуланум. Филодем был одним из влиятельных философов своего времени. Его взгляды оказали заметное влияние на античную моральную философию. До нашего времени дошло крайне мало его текстов, поэтому каждая находка подобного уровня имеет огромное значение. Труд Филодема «О пороках» — энциклопедия человеческих слабостей: автор рассуждал о жадности, высокомерии, лести и других недостатках. Свиток из Оксфорда, вероятно, стал первым томом цикла — на внутренних слоях папируса обнаружили букву «альфа», первую букву греческого алфавита, скорее всего, обозначающую номер книги.  Успех стал возможен благодаря Vesuvius Challenge — международному конкурсу с призовым фондом 700 тысяч долларов, посвященному поиску решения расшифровки поврежденных римских и греческих свитков. В 2023 году конкурс выиграли студенты из Великобритании, которые написали алгоритм, позволяющий читать такие тексты по снимкам, сделанным с помощью 3D-рентгена. Этот метод используется в паре с источником синхротронного излучения Diamond Light Source. Благодаря такой комбинации ученые расшифровали 2000 древнегреческих символов на другом свитке, а теперь отсканировали еще 18 свитков, в том числе работу Филодема «О пороках».  Папиролог Майкл МакОскер (Michael McOsker) из Университетского колледжа Лондона, участвующий в проекте, отметил, что все технологические достижения в области расшифровки поврежденных свитков появились за последние три-пять лет. Для классической науки такие темпы почти немыслимы. Исследователь уверен, что библиотека из Геркуланума еще преподнесет много открытий. | ↑ |
 Пакистан и Индия на пороге новой войны: что не поделили две ядерные державы?Несколько дней назад террористы из Пакистана убили 26 человек в индийской части Кашмира. Это подлило масла в огонь тлеющего кашмирского конфликта: Индия обвинила в теракте пакистанскую сторону, та, как обычно, все отрицает. Наказать самих террористов Дели очень сложно, поэтому есть риск, что вместо них удары будут нанесены по приграничным пакистанским солдатам, как это уже бывало в прошлом. Разгорится ли война в этот раз? Несколько человек с автоматами напали 22 апреля 2025 года на туристов в индийском Кашмире, близ города Пахалгам. Проверяя, обрезаны ли они, террористы отделяли мусульман от индуистов и расстреливали последних. Это не первый теракт в местном приграничье, но чтобы понять, почему они происходят, надо разобраться с историческими корнями кашмирского конфликта. Почему Индия очень плохо настроена к Пакистану, а он — к нейПакистан некогда был не просто Индией, а колыбелью ее цивилизации — через него проходит река Инд, вокруг которой во многом возникла и цивилизация Мохенджо-Даро, и пришедшие ей на смену индоевропейские завоеватели, ставшие основной частью высших каст Индии. Но расположение «на отшибе» индийского субконтинента сыграло с этими землями злую шутку. Сначала древняя персидская империя Ахеменидов, потом Александр Македонский и его полководцы, затем иранское племя кушанов — завоеватели волна за волной накатывались на регион и держали его под своей властью. Принципиально устройство жизни там менялось мало, потому что основа индийской идентичности (индуизм) крепко держалась в регионе. 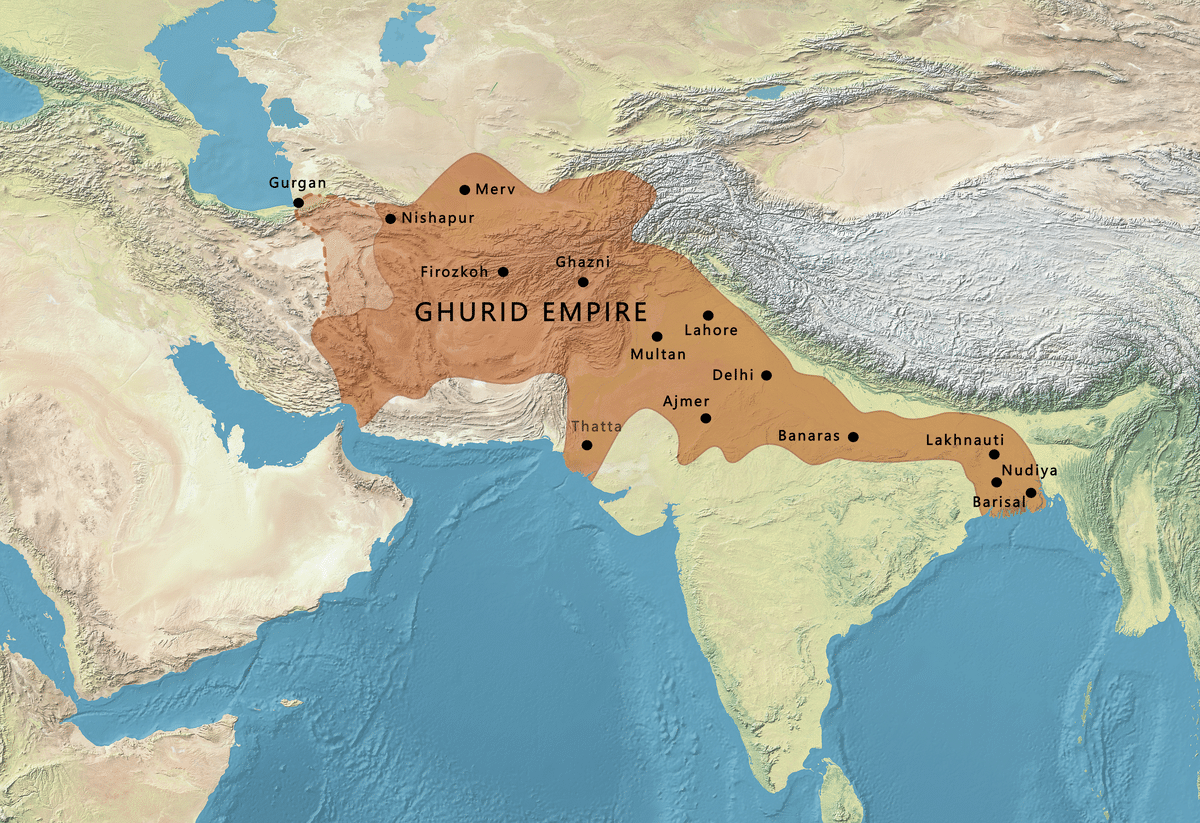 «Перепрошивка» сознания местных жителей стала наступать лишь с VIII века нашей эры. Тогда северо-запад индийских земель вокруг реки Инд завоевали мусульмане. Сначала Арабский халифат, затем тюркские правители, принявшие ислам (государство Газневидов), в XIII веке — Делийский султанат. Причем последний завоевал всю Индию в целом впервые за все время существования индуизма. В XVI веке осколки развалившегося султаната завоевали потомки Тимура — династия Великих Моголов. Государственный язык сменился на персидский, но правители по-прежнему были мусульмане. Основная часть страны исламизации не подверглась, но северо-западный угол, будущий Пакистан, а также низовья Ганга — вполне. Всеобщим языком тут служит урду — по сути хинди, но записываемый арабским, а не древним индийским алфавитом. В 1947 году, когда Британия решила дать Индии независимость, мусульмане решили требовать себе отдельное государство, которое и назвали «земля чистых» (Пакистан).  Поскольку такой страны никогда не было, объединяющий фактор (ислам) не мог обеспечить ей реальную целостность и устойчивость. Самая крупная национальность — пенджабцы — говорят на языке, который не понимают другие народы этой же страны. То же самое относится ко второй по численности этнической группе — пуштунам. И к третьей — синдхам, которых 30 миллионов из 240 миллионов пакистанцев. На картинке легко видеть, что страну населяют очень разные народы, которых кроме ислама не так много что объединяет. Поэтому не удивительно, что с самого рождения ее терзали мощные внутренние конфликты. В 1971 году населенный мусульманами-бенгальцами Бангладеш с кровавой войной вышел из состава Пакистана. Конфликты центральных властей с пуштунами идут до сих пор, часто принимая характер настоящих боев. Северо-запад государства его власти время от времени почти не контролируют, отчего там по сути правят местные пуштунские племена. А индийцы считают Пакистан своей исторической колыбелью, сердцем собственной древней цивилизации. Которое варвары-завоеватели вырвали, заставив местное население принять ислам, из-за чего теперь они называют своих бывших соотечественников врагами.  Пакистану не проще: поскольку этнически и культурно его народы почти не связаны между собой, ему отчаянно нужен как внешний враг, так и борьба с ним. Без этого не так-то просто объяснить собственному населению, почему оно должно считать братьями племена, которые говорят на непонятном языке и периодически устраивают стрельбу по окраинам. Кашмир: клин, вбитый между тремя странамиОбласть Кашмир исходно не принадлежала ни Индии, ни Пакистану. Контролировал ее, после получения независимости от Британии в 1947 году, раджа Хари Сингх. Так получилось потому, что к середине XIX века эту местность завоевал его дед — Гулаб Сингх. Гулаб Сингх исходно служил в империи сикхов, хотя сам был индуистом. Но во время войны англичан и империи сикхов он вдруг решил, что раз сикхи ему иноверцы, то не будет грехом предать их. Это помогло англичанам выиграть войну, за что они и признали Гулаба главой княжества Джамму и Кашмир. Хари Сингх наследовал своему деду Гулабу еще при колониальной администрации. Колонизаторам было по барабану, что индуисты Сингхи правили Кашмиром, населенным в основном мусульманами. А вот свежесозданному Пакистану — нет. Когда Хари Сингх отказался присоединиться к новому государству по-хорошему, племена пуштунов по сути вторглись в его страну и попытались ее захватить. Сингх решил присоединиться к Индии. Та ввела в Кашмир свои войска и изгнала пакистанские, отчего конфликт и начался.
Закончить его нет никакой возможности: три четверти местных жителей мусульмане. Поэтому провести референдум о том, куда Кашмиру присоединяться, как требует с 1940-х ООН, невозможно: Индия против, она знает, что потеряет регион. А в Дели считают, что терять его никак нельзя. Причина в географии — Кашмир на карте выглядит как клин, вбитый между Пакистаном и Китаем. Китай имеет свои территориальные проблемы с Индией, в том числе — в Кашмире. Из 100 тысяч квадратных километров его территории 37,5 тысячи под контролем Китая. Там нет религиозных конфликтов, потому что этот кусок (Аксайчин) — соленая пустыня на высоте пять километров, где трудно дышать и нельзя сеять. Однако там проходит дорога, соединяющая Тибет и Синьцзян. Контролировать ее, обеспечивая связность своих регионов на западе, Пекин считает абсолютно необходимым.  Из-за споров с Индией китайцы — традиционный союзник Пакистана. Они продают ему оружие, и для пакистанцев это важно. Поэтому отказаться от борьбы за Кашмир они не могут еще и по стратегическим соображениям. Индия, естественно, тоже не может: если дать кашмирцам референдум, то есть отдать их пакистанцам, Китай тут же построит через регион дороги. Тогда он сможет перебросить своему союзнику в случае войны не только оружие, но и куда более важную вещь: китайских солдат. А индийцы не понаслышке знают, что уровень китайских воинских частей куда выше пакистанских и индийских: разгром индийцев в индо-китайской войне 1962 года не так-то просто забыть. Второй момент, к которому мы еще вернемся: через Кашмир идет как Инд, так и ряд его притоков. Утратив его, Дели забудет и о контроле над рекой, где когда-то родилась его цивилизация. Что происходит сейчас? Это Пакистан стоит за терактом?После теракта индийцы долго думать не стали и обвинили в нем Пакистан. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф 23 апреля 2025 года публично парировал эти заявления. Мол, обвинить Пакистан в нападении «легко», но он не имеет никакого отношения к убийствам в Пахалгаме. Асиф вообще договорился до того, что это было «внутренним выступлением против индийского правительства». Скепсис индийцев по пакистанским заявлениям о невиновности можно понять. Дело даже не в том, что министр обороны соседней страны на одном дыхании приравнял явных исламских террористов чуть ли не к борцам за свободу. Важнее то, что с начала своего существования Пакистан пытался «играть в белых перчатках»: посылал своих людей воевать в Кашмир (пуштуны с запада), но делал вид, что это «местные повстанцы».  Потом основал марионеточное государство Азад-Кашмир (свободный Кашмир), которое якобы не связано с Пакистаном. Хотя на самом деле это пограничная прокладка в 13 тысяч квадратных километров между пакистанской и индийской частями Кашмира, нужная только для того, чтобы перестрелки на границе между реально пакистанскими пограничниками и индийцами формально не были связаны с Пакистаном. Но стоит сделать оговорку и другого рода. Пакистан не представляет собой единого целого, управляемого каким-то одним человеком или одной группой лиц по предварительной договоренности. Это конгломерат разных интересов. Правительству в столичном Исламабаде война с Индией из-за веры или Кашмира и в самом деле не очень нужна. Пакистанцы пробовали такую войну на вкус уже раз пять с 1947 года, последний раз — в 1999 году (Каргальская война). Ничего хорошего почему-то не выходило. Не то чтобы у Индии очень качественная армия, но пакистанская не лучше. А вот пуштуны видят ситуацию совсем иначе. Они знают, что их родичи в Афганистане смогли сделать с американской армией то, что не вышло у куда лучше вооруженной армии Ирака. Поэтому лидеры местных племен считают, что и в конфликте с Индией могут переиграть свое формально хорошо вооруженное, а на деле не очень организованное государство и вооруженные силы. Им было бы интересно подтолкнуть конфликт, если бы они вдруг сочли, что могут переломить его ход. Есть и другие силы. Вскоре после теракта в Пахалгаме ответственность за него взяло на себя Движение сопротивления. Многие считают его просто светским брендом крупной террористической организации Лашкар-е-Тайба («Армия чистых»), со штаб-квартирой в пакистанском Лахоре. Проблема в том, что хотя власти Пакистана и полагают эти террористические организации скорее добром, чем злом (пока они терроризируют индийский Кашмир), реального и полного контроля над ними у них тоже нет. Да и Движение сопротивления через несколько дней якобы отозвало свое признание в содеянном. Как тут разобраться со стороны? Никак. Далеко не факт, что и пакистанские власти точно во всем уверенны: у них традиционно военные любят играть в свои игры с приграничным конфликтом в Кашмире. А еще иногда любят свергать законные гражданские власти. Отделить очередной армейский пиар-ход от очередного же армейского заговора бывает ничуть не проще, чем теракт террористов — от теракта тех или иных властей, прикрывающихся террористами. Перекрытие Инда может привести к ядерной войне?С 1998 года обе страны заимели ядерное оружие. На самом деле, у Индии первая термоядерная бомба появилась, существенно ранее, в 1974 году. У обеих идет наработка ядерного оружия, и, по международным оценкам, по 170 атомных боевых частей разной мощности. В нормальное время это было бы очень хорошо: как только кто-то получает ядерное оружие, он начинает избегать по-настоящему больших войн. Собственно, так и ушли в прошлое мировые войны, бывшие в доатомную эру настоящим бичом человечества.  Так было и тут: Каргильская война 1999 года была намного меньше предшествовавших трех крупных индо-пакистанских войн. В 2019 году после одного из предшествовавших терактов «с той стороны» индийцы нанесли авиационный удар по Балакоту. Ущерб тогда вряд ли был большим: 12 истребителей с неуправляемыми бомбами у неопытных ВВС могут сделать что-то серьезное в основном случайно. Потом стороны постреляли друг в друга через границу, и все стихло. Проблемой ситуации 2025 года стала декларация Индией намерения «перекрыть Инд». Кашмир позволяет Дели контролировать верховья этой реки. И действительно, четыре шлюза в них он уже перекрыл. Чем нарушил договор 1960 года, по которому когда-то обязался не мешать Пакистану использовать 70 процентов водных ресурсов региона. Это не значит, что завтра пакистанцы начнут страдать от голода. Индийцы не могут отвести из верховьев Инда столько воды, чтобы ниже по течению ее стало меньше: для этого нужно строить отводные каналы, что займет несколько лет. Да и после этого, если сезон дождей будет приличный, то уровень Инда в среднем и нижнем течении не упадет фатально. Ведь огромная масса воды впадает в него с притоками уже южнее Кашмира, в самом Пакистане.  Но что если индийцы решатся строить каналы? Что если после этого лето будет сухим? От Инда в стороны отходит так много оросительных каналов, что в сухие годы он даже не доходит до Аравийского моря, куда в норме впадает. В таком случае большие сельхозплощади в Пакистане окажутся перед угрозой неурожая. Исламабад может попасть в ситуацию, когда ему придется начать бои. Границы, торговля и воздушное сообщение между странами сейчас перекрыты. Четыре пятых сельского хозяйства северо-западного соседа поставлено под угрозу. Неудивительно, что пакистанцы уже перебрасывают 203-миллиметровые самоходки к границе. На видео ниже показана реакция местной молодежи на происходящее. Крупная война все еще выглядит маловероятной, а вот перестрелки с вовлечением артиллерии вполне возможны. Проблема в том, что мелкие стычки иногда неконтролируемо перерастают в большие. Обе стороны обладают не самыми организованными армиями на свете, что не уменьшает объем рисков. 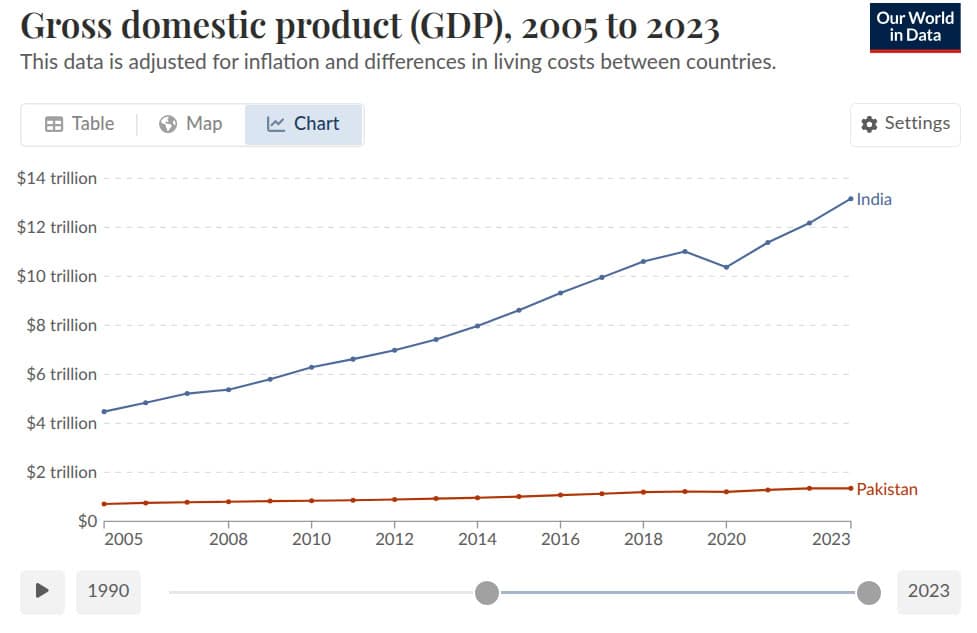 Объективно война не нужна ни Дели, ни Исламабаду. Индия в последние десятки лет прилично растет экономически. А вот Пакистан, которым макроэкономически никто особенно не управляет, развивается не так бодро. Еще лет 20-30 — и баланс сил в регионе изменится. Так что торопиться с войной индийцам смысла нет. Особенно мало смысла в ее ядерном варианте: у обеих стран высочайшая плотность населения и буквально мегагорода, на десятки миллионов жителей. Одна боеголовка в такой обстановке способна убить столько, что дальнейшее обострение может превратиться в тотальную войну. С одной стороны это значит, что вероятность применения даже одной ядерной бомбы здесь очень мала. С другой — если это случится, остановиться на ней одной будет крайне сложно. А ядерная зима?Действительно, было научное исследование, по которому даже ограниченные по размерам атомные удары в новой индопакистанской войне приведут к «ядерной зиме» с существенным (до двух градусов) падением температур по всему миру. Однако это исследование, как мы уже отмечали в более раннем тексте, с научной точки зрения выполнено очень плохо. Оно никогда не прошло бы рецензирования, если бы не тот факт, что научному сообществу вообще трудно разоблачать выдумки о возможности ядерной войны. Как сказал десятки лет назад крупный американский физик Фримен Дайсон еще про первые расчеты о «ядерной зиме»: «Это абсолютно отвратительно сделанное научное исследование, но я считаю, что исправить ситуацию публично невозможно… Кто захочет, чтобы его объявили сторонником атомной войны?» Дайсон говорил это о расчетах последствий взрывов тысяч ядерных боеголовок в войне США и СССР. У Индии и Пакистана сейчас нет и пяти процентов от того, что было у Америки и нашей страны в ту пору. То есть нам в России беспокоиться вроде бы не о чем. Но что-то мешает расслабиться и перестать следить за темой. Быть может, это память о том, что после переворота в Афганистане последний стал мировым центром экспорта героина. Пакистан после ядерной войны с высокой вероятностью превратится в кашу из племен и микрогосударств, без законных властей. И тогда из него вовне может пойти не только героин, но и «террористы на экспорт» — из лагерей той же Лашкар-е-Тайба или любой другой «армии нечистых». | ↑ |
 Финикийцев выписали из предков карфагенянЗападные колонии финикийцев включали сильнейшую морскую державу древнего Средиземноморья — Карфаген. Его жители использовали финикийский язык и поклонялись соответствующим богам. Теперь генетики заявили, что практически все эти люди — не потомки финикийских колонистов. Происхождение их в связи с этим довольно загадочно. Генетики под руководством Дэвида Райха (David Reich) изучили ДНК 196 древних людей из 14 точек в Леванте, Северной Африке, Иберии, на Сицилии, Сардинии и Ибице, а также из Алжира раннего железного века. Затем они сравнили проанализированные ДНК из Западного Средиземноморья с финикийскими из Леванта. Их выводы разошлись со всем, что историческая наука знает о миграциях этого народа. Статья с результатами исследования опубликована в Nature. Ученые выяснили, что лишь три из почти двух сотен человек, чью ДНК они исследовали и которых до этого относили к финикийским колонистам западнее Кипра, происходили от древнего населения самой Финикии, лежавшей на территории современных Ливана и Сирии. Остальные произошли либо от населения Сицилии, либо от жителей Эгейского региона бронзового века. Выяснить, от кого именно, практически невозможно, потому что в бронзовом веке эти два региона были генетически населены одними и теми же группами людей, практически неотличимыми друг от друга. В двух точках на Сицилии и одной на Сардинии так же нашли гены выходцев из Северной Африки. Даже у североафриканцев доля в генах предполагаемых финикийских колонистов выше, чем у самих финикийцев. Вероятно, это результат влияния Карфагена на финикийские (теперь, видимо, лишь по языку и культуре) колонии на этих островах.  Новые данные чрезвычайно трудно понять с исторической точки зрения. По множеству надписей известно, что финикийские колонии от Кипра до Иберии имели один и тот же финикийский язык, не отличавшийся от использовавшегося в Тире, Сидоне или Библе (городах Финикии). Аналогичной была и их религия, а также культура в целом. Авторы работы учли эту проблемы и ставят вопрос о том, как именно вышло, что целиком нефиникийское население то ли Сицилии, то ли Эгейского региона вдруг перешло на чуждый им язык другой (семитской) языковой группы, а равно и на ее религию. Генетики отметили, что выяснить это сложно, потому что до VI века до нашей эры финикийские религиозные взгляды требовали сжигания трупов. Поэтому от их колоний до этого времени образцы ДНК не сохранились. Исследователи предположили, что после основания финикийцами в первые века I тысячелетия до нашей эры колоний в Западном Средиземноморье, они массово ассимилировали местное население — в первую очередь на Сицилии. И делали это так долго, что в конце концов собственно финикийцы среди них исчезли без генетического следа, не оставив выживших потомков. Это очень экзотическая гипотеза. Например, потомки индоевропейцев ассимилировали население четверти обитаемого мира.  Но следы их индоевропейских предков не только не исчезли из ДНК современных жителей России, Европы, Северной Америки, Австралии и Канады, но и доминируют там. Хотя от начала экспансии индоевропейцев до нашего времени прошло пять тысяч лет, а не считаные 400 лет, как между началом экспансии финикийцев и фиксацией отсутствия их ДНК в «финикийских» колониях, изученных группой Райха. Возможным частичным объяснением может быть какая-то доля генов филистимлян среди колонистов, отплывших в IX веке до нашей эры из Финикии к землям будущего Карфагена в Северной Африке. Известно, что филистимляне, жившие в Сирии на рубеже II и I тысячелетий до нашей эры, происходят из региона Эгейского моря. Но уже к IX веку до нашей эры перешли на финикийский язык. В таком случае исторические источники могли воспринимать их в новых землях как финикийцев, а генетически их потомки выглядели бы выходцами с берегов Эгейского моря. Правда, данных об их религиозной ассимиляции практически нет, а религия карфагенян была финикийской, что затрудняет решение вопроса. | ↑ |
 Древесные кольца связали с «Великим заговором варваров» против Римской БританииВ 367 году нашей эры заговор очень разнородных групп варваров привел к падению римской власти в Британии на год. Причины его успеха долгое время были не вполне ясны. Кажется, теперь ситуация стала понятнее. В 350-353 годах франк родом из Галлии, Флавий Магн Магненций, попытался захватить власть в Римской империи. Он опирался на римские силы, расквартированные в Галлии и, возможно, в Британии (этот момент ясен не до конца). В Битве при Мурсе его разгромил император Констанций II. Но общие потери римских солдат с обеих сторон составили 50 тысяч убитыми, что обескровило многие легионы в западной части империи. По мнению историков, в 367-м эта слабость стала одной из причин, позволивших группе племен из Ирландии ( аттакотты, скотты), пиктов (современная Шотландия) и саксов (Германия) одновременно вторгнуться в Британию и примерно год грабить ее, подрывая местную экономику. Варвары опустошили провинцию до такой степени, что некоторые историки считали именно этот момент ключевым для падения римской власти на острове в 410-м. Около 367 года возникло немало кладов с монетами (обычный признак острого кризиса), позднее найденных археологами, а также началось постепенное падение численности населения вилл и городов региона. Группа европейских ученых попробовала сличить события этого периода с состоянием древесных колец дубов с юга Британии и севера Франции. На этой основе они восстановили ситуацию по осадкам в регионе за 350-500 годы. Статья с результатами вышла в журнале Climatic Change. Исследователи констатировали необычную последовательность из трех крайне сухих теплых сезонов подряд между 364 и 366 годами. Первые два года были особенно суровыми: они попали в два процента самых сухих лет за весь период наблюдений. Если за 350-500 годы в среднем осадки в апреле-июне там составляли 51 миллиметр, то в 364 году — только 29 (58 процентов нормы), в следующем — 28 миллиметров в год (54 процента), а в 366-м — 37 миллиметров (72 процента) в год. На континенте в эти же годы ситуация была значительно мягче. Ученые обратили внимание на редкость подобных событий и в нашу эпоху. Скажем, в 1836-2024-х засух такой силы, как в 364-365 годах, было лишь семь (одна в 27 лет), ни разу ни одна из них не шла сразу за другой. В 350-500-х таких событий случилось лишь два, одно в 75 лет — и оба подряд. Особую сложность ситуации придавала специфика земледелия в Римской Британии. Там не сажали озимые, поскольку пахать влажную почву до механизации сельского хозяйства сложно, а регион этот отличается осенью и зимой с обильными осадками. Чтобы избежать сложностей и проблем с сорняками, там сеяли весной — в основном полбу и ячмень. Это дало результаты: Британия, нетто — импортер хлеба в первые столетия римского владычества, к IV веку стала нетто-экспортером. Но у достижения была и оборотная сторона: без озимых неурожай культур, посеянных весной, означал полный срыв нормального сельхозсезона. Авторы работы также напомнили, что до 360-х остров ежегодно вывозил до 600 судов с продовольствием в прирейнские провинции империи. В такой ситуации его собственные запасы могли быть невелики. Для аграрных обществ без многолетних запасов продовольствия сухие годы часто становились причиной голода. Римская империя в норме имела существенные запасы продовольствия, а развитая морская торговля делала переброску продовольствия из региона в регион несложной. Исследователи отметили, что неясно, почему этот механизм не сработал в 360-х. Добавим, что к IV веку торговля в империи стала проблематичной из-за уменьшения денежной массы в государстве. Серьезный дефицит продовольствия в Британии должен был привлечь внимание варваров. Несмотря на голод, она оставалась для них желанным трофеем и одновременно страдала от засухи, подрывавшей способность содержать войска. Накануне «Заговора варваров» 367 года, согласно историку Аммиану Марцеллину, римские легионы в Британии столкнулись с длительными задержками зарплаты. Из-за этого многие их солдаты дезертировали, а после вторжения варваров сами стали мародерами, грабя города и виллы. Присланный из Рима Феодосий Старший в 368-369 годах нанес вторгшимся варварам и мародерам серию поражений и быстро восстановил порядок. Он смог вернуть гарнизон на Адрианов вал, используя для этого дезертиров, бежавших из легионов во время голода (для чего объявил им амнистию). Но с учетом упоминания Марцеллином угона части римских граждан Британии в рабство, устойчивость этого региона империи могла быть подорвана вторжением на долгое время. Ранее Naked Science писал, что три холодных и потому сухих года подряд в VI веке нашей эры — через 170 лет после «Заговора варваров» — привели к серии очень тяжелых последствий. В том числе к крупнейшему сражению в Британии Темных веков. В этой битве в 537 году, как считается, погиб Артур, военный вождь бриттов (тогда же погиб Мордред), что ускорило завоевание острова англами, саксами и ютами. | ↑ |
 Война за независимость США: как французская мстительность породила сильнейшее западное государство всех временВойна за независимость североамериканских колоний от Англии началась 19 апреля 1775 года, ровно 250 лет назад. И они победили — несмотря на малочисленность, отсутствие промышленности и поддержки большинства населения этих самых колоний. Бессмысленным со стороны кажется даже причина конфликта: американцы начали его, чтобы не платить налоги, хотя платили их в 16 раз меньше англичан. Что на самом деле стало причиной войны? Как отсталая аграрная страна смогла выиграть у «мировой фабрики», которой в ту пору была Англия? В 1607 году англичане основали в Виргинии Джеймстаун, и так началась история колонизации ими Северной Америки. Колонии быстро росли, уже в 1675 году их население было 130 тысяч человек, а в 1775 году — 2,4 миллиона человек (два миллиона без рабов). За 100 лет население выросло почти в 20 раз. Никакая другая европейская колония так не росла. Для сравнения: саму Великобританию тогда населяло 7,8 миллиона человек. Рост, с одной стороны, был чрезвычайно выгоден Лондону. Ведь 90 процентов экспорта из будущих США составляло нужное Англии сырье: табак, зерно, сушеная рыба, дерево, индиго, меха (бобр). Обратно шли промышленные товары: от пуговиц до одежды, инструментов и машин. Но были и неприятные для англичан последствия: колония с населением около 30 процентов метрополии требовала администрации (губернаторов и чиновников), солдат, обороняющих от индейцев, и всего остального. Люди эти содержались из казны метрополии, а не из налогов местного населения. Особенно обострила проблему Семилетняя война 1756-1762 годов: чтобы воевать с французами в Канаде, Англии пришлось содержать там относительно крупную армию. Даже после окончания войны она тратила на это 350 тысяч фунтов стерлингов в год. А налогов местное население платило всего на 64 тысячи фунтов. 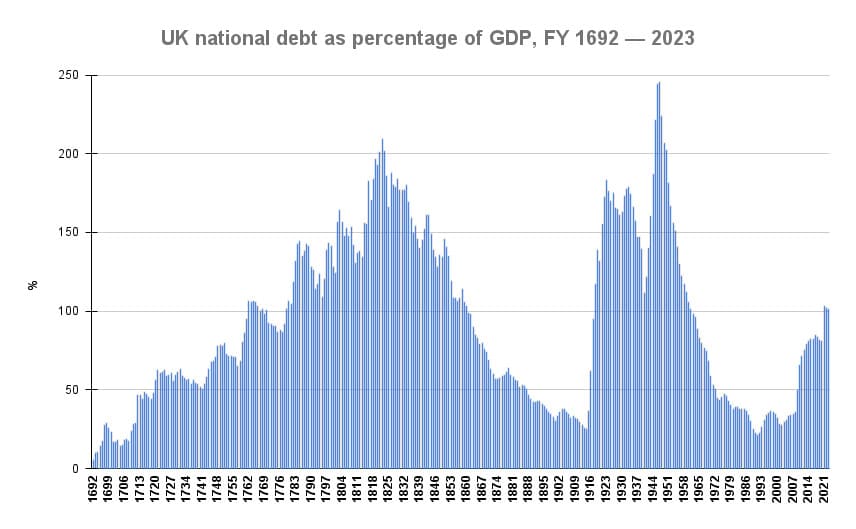 К 1760-м годам госдолг Британии — в том числе и по этим причинам — вырос до 70 процентов ВВП. Сегодня мы знаем, что такая величина спокойно переносится экономиками, но для британской элиты того времени это было крайне непривычно. Лорды занервничали и начали копаться в цифрах. Выяснили, что средний североамериканский колонист платит налогов всего на 0,04 фунта в год. Средний англичанин тогда платил 1,24 фунта в год. По сути, метрополия финансировала так называемые колонии, поставляя им услуги администрирования и безопасности, но не получая взамен вообще ничего. 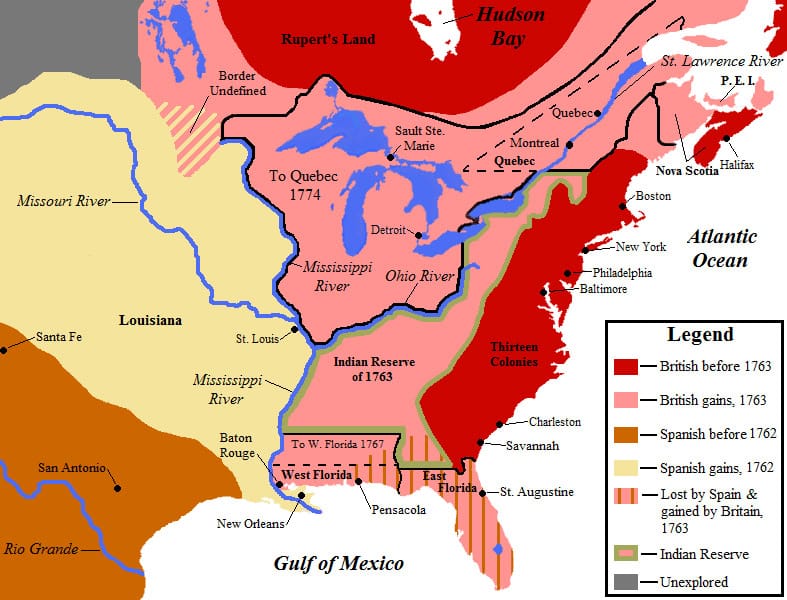 Не удивительно, что Лондон захотел возложить на колонии дополнительные налоги — начиная с особого гербового сбора 1765 года. Колонии, мягко говоря, возражали. Их представители отправились в Британию и сообщили, что поскольку они как избиратели в ее парламенте не представлены, то не считают платеж справедливым. Лорд Гренвилл, английский премьер, который вел с ними переговоры, сообщил, что ему все равно, кто будет собирать налоги. Если колонисты хотят, пусть делают это сами, и жалование английской армии у себя пусть тоже платят самостятельно. Представители колонистов (среди них был Бенджамин Франклин) были, конечно, не такие люди, чтобы на это согласиться. Они тут же заверили англичан, что 13 колоний не смогут между собой договориться, кто сколько должен платить. Гренвилл ответил, что в таком случае собирать налоги придется англичанам. Все эти аргументы позволили Гренвиллу провести закон через парламент, но не заинтересовали американцев. Слоган «Никаких налогов без представительства» быстро стал популярным. Конечно, никто из его сторонников не задавался вопросом, как именно британский парламент должен включить в свой состав жителей США, не задуывался, что это требует фундаментальных изменений законодательства и так далее. Никто не хотел платить налоги и все тут. С первой попытки повысить налоги в колонии не получилось, но в следующие десять лет Лондон все же ввел там ряд налогов. В итоге американцы на душу населения все равно платили в 16 раз меньше, чем англичане, но хотя бы не в 30, как раньше. Разумеется, стерпеть такое было невозможно. Поэтому вскоре начались протесты местного населения против налогов («Бостонское чаепитие»). Англичане решили в ответ ввести ограничения против порта Бостона, но колонисты только серчали и постепенно начали готовиться к боям. Битва при Лексингтоне: война началась, а где же ружья?Английские войска в Бостоне 19 апреля 1775 года решили нанести визит в оружейные склады колонистов, поскольку знали, что те готовят вооруженное противостояние. Однако слухи не удержали это намерение в тайне: колонисты не только вывезли все со складов, но и подготовили людей к боям с англичанами. Местное население привыкло ходить с оружием, спасибо частым войнам с индейцами и французами. Английские колонны, посланные к уже пустым складам, была ничтожно мала (400 человек в Лексингтоне, 300 — в Конраде), а стрелять по ним быстро захотели тысячи колонистов-ополченцев.  «Красные мундиры» (прозвище британских солдат) стали отходить, а на подмогу им выслали 800 человек. Это предотвратило еще более тяжелые потери, но и только: англичане все равно потеряли 124 убитыми и пропавшими без вести. Будущие американцы — только 54. Вот только начать войну было куда проще, чем ее продолжать. В известном романе «Унесенные ветром», описывающем Гражданскую войну в США 1861-1865 годов, один из персонажей критикует решение южан воевать за независимость так: «[у противника есть] заводы, фабрики, верфи, рудники и угольные копи — все то, чего у нас нет. А у нас есть только хлопок, рабы и спесь. Это не мы их, а они нас разобьют». Почти то же самое можно было сказать про 13 колоний в 1775 году. То же самое в том смысле, что у них не было заводов, фабрик, рудников и угольных копей. «Почти» — потому что у 13 колоний были рабы и спесь, но еще не было хлопка. Экспортеры табака и другого сырья не имели почти ничего из сложных промышленных товаров — а к ним относятся и ружья, и порох. Была у будущих американцев и другая проблема: отсутствие существенной армии. Налоги, понятное дело, не хотел платить никто, и пока речь шла об этом пункте, все колонисты были за независимость. Но как только речь заходила о том, что для этого надо идти в армию и воевать, согласие исчезало. Сырьевой придаток, населенный в основном фермерами (на севере), рабами и рабовладельцами типа Джорджа Вашингтона (на юге), не мог выделить много людей в армию. Кто будет пахать за фермера, если он пойдет воевать? Соцобеспечения в стране никакого не было, а положить нормальное жалование мешало то, что никто не горел особенным желанием платить налоги — из-за чего, собственно, и началась война.  Рабовладелец Вашингтон — популярный среди колонистов со времен Семилетней войны — мог согласиться возглавить Континентальную армию колонистов, потому что за него работали рабы и надсмотрщики. Но малочисленность этой социальной группы мешала ей сыграть существенную роль в наполнении армии. Надо было что-то решать. Ни о какой независимости тогда речь не шла: восставшие хотели добиться больших уступок от Лондона. Для этого казалось логичным нанести ему несколько крупных поражений, заставить считаться с собой. Вашингтон берет дело в свои рукиПосле битвы при Лексингтоне колонисты окружили английские войска в Бостоне и блокировали их там. При господстве Англии на море это могло продолжаться долго. Но в июле 1775 года к городу прибыл Джордж Вашингтон и решил как-то активизировать бои. Правда, его желание поутихло, когда выяснилось, что у осаждающей армии в 14 500 человек пороха на девять выстрелов из каждого ружья. Тогда он взял Бостон в осаду, стал подтягивать к городу захваченную у англичан в форте Тикондерога артиллерию, в общем вести планомерную осаду. Силам Вашингтона к 17 марта 1776 года удалось загнать трофейную артиллерию на господствующие Дорчестерские высоты. Уильям Хау, командовавший осажденными англичанами, не знал, что у осаждаюнщих маловато пороха, и эвакуировался из Бостона всем гарнизоном. Налицо была первая большая победа.  В этот момент Вашингтон направил в Канаду 2200 человек во главе с генералом Ричардом Монтгомери. Идея была в том, чтобы поднять восстание и среди франкоязычных квебекцев, которые любили оккупировавший их дюжину лет назад Лондон как собака палку. Но с ее практической реализацией возникли сложности. Прокламации к канадцам со словами «Друзья! Соотечественники!» были написаны на английском, не самом популярном у квебекцев языке. Более того: они относились к колонистам, которые соучаствовали в их оккупации во время недавней Семилетней войны, так же плохо, как и к англичанам. Монтгомери занял Монреаль, не встретив сопротивления, но при штурме Квебека погиб, американцы потеряли 400 человек, после чего бежали из Канады. Боевые потери английских гарнизонов в Канаде в боях за нее составили лишь 700 человек, а американцев — 1500. Вдобавок они в пути еще и подхватили оспу, отчего многие погибли без боя. Так провалилась первая американская попытка захвата Канады, сыграв заметную роль в последующей истории человечества: преуспей колонисты тогда, сегодня Штаты были бы намного более сильным и перспективным государством.  У этого провала было и другое следствие: верхушка восставших, во главе с Вашингтоном, отчетливо поняла, что их перспективы выиграть войну самостоятельно сомнительны. Захваченный у англичан порох не был бесконечным. Победив в Канаде, британцы двинулись оттуда в наступление на северные колонии. Нужна была существенная помощь от государства, способного дать американцам оружие, обмундирование, деньги и главное — солдат с вменяемым командным составом. Переговоры с Францией обо всем этом они начали еще в 1775 году. Но дела шли плохо: французам не улыбалось воевать ради безналогового статуса англоговорящих, недавно захвативших французские земли с французским же населением в Квебеке. Их могло заинтересовать только одно: стратегическое ослабление Британии, их давнего врага. Независимость: выбор сделан, но монетизировать его еще не вышлоТакое ослабление могло быть достигнуто только в одном случае: если бы 13 колоний объявили независимость. Между мартом и июнем 1776 года все они по одному заявили о готовности к ней. Опираясь на эти решения, 4 июля того же года была подписана Декларация независимости. Джордж Вашингтон объявил о ней армии, а свинцовую статую короля в Нью-Йорке уронили и сделали из нее пули (металл для них США тоже не производили). Однако от декларации до союза с Францией предстоял еще долгий путь. Дело в том, что в отсутствие быстрой связи и пассажирского сообщения сигналы из Северной Америки достигали американских представителей в Париже небыстро. А тем еще требовалось время на убеждение французской стороны. Ее дипломатам тоже нужно было время: сагитировать своего короля на новую войну с Англией. И трудность тут была даже не в том, что Франция эти войны в норме проигрывала. Вставал ключевой вопрос: где-то надо брать деньги на войну. Госдолг Франция особо не наращивала — он у нее был в несколько раз меньше относительно ВВП, чем у Британии. А поднимать налоги было небезопасно, потому что это могло обернуться созывом Генеральных штатов (местного варианта парламента). Созывать его короли очень не любили, и не просто так: в 1789-м такой созыв обернулся Великой французской революцией. То есть физической гибелью короля с семьей и многолетней бойней. А также в итоге потерей Францией статуса сильнейшей западной экономики. Но все это было еще впереди, а пока Вашингтону надо было бороться с англичанами. Последние решили захватить Нью-Йорк, высадив десант в 15 тысяч человек. Из-за ошибок англичан бои за Нью-Йорк шли с 22 августа до осени, но все же они выиграли и заняли город.  Ситуация в этот момент была для него очень тяжелой: армия под его началом временами уменьшалась до пяти тысяч человек. Иногда из-за вспышек оспы, иногда из-за окончания срока службы солдат, иногда в силу их дезертирства. Плантатор проявил выдающуюся психическую устойчивость: если под Нью-Йорком при виде бегущих рядовых своей армии он сорвал шляпу и бросил ее оземь со словами о том, что непонятно, как с этими людьми защищать Америку, то к зиме 1777 года он все еще продолжал мелкие наступательные действия — привыкнув к малочисленности, плохому вооружению и низкой дисциплине своей армии. Серьезным подспорьем стало присвоение ему Конгрессом диктаторских полномочий в конце 1776 года и проведенная после этого поголовная вакцинация солдат от оспы. Британцы своих солдат тогда уже прививали, а американцы нет, из-за чего чуть не каждый их крупный поход сопровождался большими потерями от этой болезни. Серьезных успехов армии Вашингтона добиться все же не удалось.  Зато в октябре 1777 года силы ополченцев, действовавшие отдельно от Континентальной армии Вашингтона, в силу ряда ошибок британского командира Джона Бергойна смогли разгромить крупный отряд «красных мундиров» (впервые в истории ополчения) под Саратогой. Безвозвратная потеря 6,7 тысячи англичан стала их крупнейшим поражением с начала войны и подтолкнула Париж к решению вступить в войну: теперь они сочли, что колонисты достаточно сильны, и помочь им можно без перенапряжения сил Франции. Франция выигрывает войну за американцевВ 1778 году французы наконец вступили в войну, и значение этого трудно переоценить. В тот момент подушевой ВВП Франции был в полтора раза меньше британского, но население было втрое больше. Поэтому по размеру экономики Франция вдвое превосходила Британию. Вообще, ее экономика была сильнейшей изо всех западных — чего в послереволюционную эпоху, разумеется, более никогда не случалось. Французы дали американцам первое нормальное оружие: до того те часто были вооружены франкенштейнами из запчастей от разных мушкетов разного времени, подогнанных «по месту», имевших низкую кучность и качество. Они же прислали им ткань и пуговицы для военной формы, артиллерию и — что было очень важно — крупную эскадру на 12 линейных кораблей и четыре фрегата, а также десяток тысяч солдат. Для Штатов, у которых 5-10 тысяч солдат в одном месте были сложно достижимой редкостью, речь шла об огромной помощи. Это не значит, что война сразу пошла на лад. Французский командующий де Рошамбо, увидев уровень подготовки, дисциплины и снабжения колонистов был настолько удивлен, что сразу перестал доверять американцам как боевой силе. Поэтому он долго накапливал подкрепления из Франции, желая обеспечить себя достаточно надежными кадрами. Потянулись годы почти без значимых боев. И все же, в сентябре-октябре 1781 года силы накопили, и восемь тысяч солдат под английским командованием были окружены под Йорктауном и сдались в плен.  Победа в Йорктауне не просто была крупнейшей для американцев в войне — ну или для французов, потому что из 19 тысяч французских и американских солдат под Йорктауном большинство было именно у них, — она имела и сильнейшее психологическое воздействие. Английский премьер лорд Норт, узнав о поражении, вскричал: «Все кончено!» и начал переговоры о мире. Почему Англия сдалась?На первый взгляд его позиция кажется очень странной. Дело в том, что Англия финансово была куда более устойчива, чем Франция: она могла повышать налоги, поскольку там и так правил парламент, а Франция не могла, так как созыв Генеральных штатов для нее был подобен выстрелу в висок (как позже и получилось). Об этом знали те, кто мог давать этим двум государствам в долг, отчего Парижу в долг давали крайне неохотно: не из чего возвращать. А Британии, напротив, чрезвычайно охотно. Про Америку тут и говорить не приходится: ей в долг давать было особо некому, поэтому она печатала деньги без оглядки. В стране была дикая инфляция и одновременно дикие же задержки зарплаты в армии. В 1783 году из-за этого случился Ньюбургский заговор. Кроме того, в апреле 1782 года английский флот разгромил французский в сражении у островов Всех Святых, крупнейшем в XVIII веке, и нанес большой ущерб: пять тысяч человек. В условиях разгрома флота крупные подкрепления к французам не приходили, а значит, англичане могли закончить войну победой.  И тем не менее они этого уже не хотели. Чтобы понять их мотивы, надо обратиться к ситуации в Британии 1750-1780-х годов. В 1750-х английским правительством фактически руководил Уильям Питт-старший, человек исключительных способностей и, как это часто с такими людьми бывает, не склонный к политкорректности. За это в британских элитах его ненавидели, но пока шла Семилетняя война терпели, потому что разделяли его убеждение, выраженное им же так: «Я могу спасти эту страну, и больше никто не может». В 1760-х наступил мир, и от власти его отстранили. Питт был сторонником урегулирования отношений с американскими колониями за счет выдачи им мест в британском парламенте — тогда они бы легко согласились на повышение налогов. Питт ссылался ровно на ту же историю для Уэльса: пока тот не был представлен в парламенте, парламент не назначал ему и налоги. Но мнение его в мирное время никого не интересовало, а к апрелю 1775 года, началу Войны за независимость, он уже слишком сильно болел, чтобы возглавить страну. Его тезисы, однако, глубоко влияли на ситуацию: они показывали англичанам, что те сами во всем виноваты.  Усугубил положение и сам лорд Норт: его правительство, столкнувшись с нехваткой солдат, решило позволить и католикам служить в армии, а заодно и выдать им полные гражданские права. В Лондоне в 1780 году из-за этого случился бунт с сотнями убитых в уличных боях ( бунт лорда Гордона). В общем, правительство лорда Норта, которое наплевало на здравую позицию Питта-старшего, всю войну теряло популярность, и к ее концу его членам разве что в спину не плевали. Другие силы в парламенте не хотели связывать свое имя с продолжением войны, которая стала политическим гробом для Норта. К тому же королю Георгу III изрядно поднадоел весь этот беспорядок в парламенте, и он решил двигать в премьеры сына Питта-старшего — Питта-младшего (что и реализовал к 1783 году). Тому, правда, было на момент начала премьерства только 24 года, а еще его не любил парламент, но король так наелся премьерами, которые нравились парламенту, что его было уже не остановить. На этом фоне англичанам хотелось поскорее отпустить США в свободное плавание и забыть о них, как о страшном сне. Дальновидности понять, что из-за своего уникального географического положения Штаты через 120 лет станут сильнее самой Англии, Лондону не хватило. Вернемся к началу текста: кто же подарил США их независимость? Самый легкий ответ на этот вопрос — Франция. Совершенно очевидно, что без нее Континентальная армия развалилась бы под грузом инфляции и неплатежей, нехватки оружия, офицеров и солдат, желающих служить. Из двух миллионов свободных американцев для войны ни разу не удавалось собрать в одном месте даже 20 тысяч — желание «не платить налоги без представительства» оказалось неважным поводом подставлять свою голову под пули. Менее очевидный ответ — британские элиты. Оставь они у власти Питта-старшего, он бы провел там парламентскую реформу, как с Уэльсом, американские депутаты в парламенте проголосовали бы за рост налогов, и на этом все. США были бы с Британией заодно, в стерлинговой зоне. А это значит, что Британия и сегодня правила бы миром как минимум экономически, поскольку без выхода из стерлинговой зоны Штаты технически не могли отобрать у Лондона мировое экономическое первенство. Но более верный ответ иной: независимость Вашингтону подарила ее величество случайность. Если отстранение Питта-старшего от власти было нормой — люди не очень любят умников во главе правительства и мирятся с этим лишь по крайней нужде, — то тот факт, что Франция вступила в войну на стороне колонистов в 1778 году, никак нельзя считать закономерным. Не отступи англичане временно в 1765 году с гербовым сбором, Война за независимость началась бы на десяток лет раньше. А на тот момент французы еще не вышли из финансового штопора после Семилетней войны и не отстроили флот, потерянный в ней. Поэтому поддержать США явно не рискнули бы. | ↑ |
 В одной из хроник римляне соврали о своей военной победеВ древнеримских документах веками утверждалось, что легионы императора Октавиана Августа стерли с лица земли столицу враждебного царства Куш — город Напата. Но археологи, которые проводили раскопки в песках Судана, выяснили: столица не только устояла перед армией Рима, но и сохранила свои храмы нетронутыми. Ученые не нашли там следов боев. После смерти Клеопатры в 30 году до нашей эры Египет стал провинцией Рима. На первых порах власть империи в регионе была шаткой. Южные границы римского Египта оказались под ударом Куша — могущественного царства, занимавшего территорию нынешнего севера Судана. Первый римский император Октавиан Август, известный своей жаждой славы, приказал ответить на вызов масштабной военной кампанией. Историк Страбон писал, что в 23 году до нашей эры римляне дошли до Напаты — священного города кушитов — и сравняли его с землей. Победа должна была продемонстрировать мощь Рима. С тех пор эту версию событий переписывали, копировали и передавали из поколения в поколение. Но правда, как выяснилось, оказалось иной. С 2018 года международная команда археологов из проекта Jebel Barkal Archaeological Project (JAP) проводит раскопки Напаты на севере Судана. Ученые сосредоточились на слоях, относящихся к I веку до нашей эры — периоду, когда, по словам римлян, город был уничтожен. Археологи искали признаки разрушений, характерных для городов, переживших вторжение: оружие, оставленное в спешке, следы пожаров, разграбленные храмы и дома. Но ничего из этого не обнаружили. «Мы ожидали найти обугленные стены, разбитые статуи, брошенное оружие, следы грабежа. Но этого нет. Даже храм Амона, самое монументальное здание города, остался нетронутым, хотя в документах утверждалось, что его разрушили. Мы не нашли даже фрагментов римских доспехов», — пояснил Сами Эламин (Sami Elamin), участник JBAP из Национальной корпорации по древностям и музеям Судана. Геофизические исследования находок подтвердили, что город не подвергался разрушениям. Здания стояли на своих местах, улицы оставались нетронутыми. По мнению ученых, римляне либо не дошли до Напаты, либо просто развернулись у ее стен. Неясно, почему Напата избежала разрушения. Тим Скулдбёль (Tim Skuldbol), независимый исследователь и участник экспедиции, считает, что в то время столица была достаточно уязвима, поскольку кушитские войска находились в поле. Напата располагалась в нескольких сотнях километров от границы, добраться до нее через пустыню было достаточно сложно. Вероятно, римляне просто не пошли дальше, развернулись и выдали свое отступление за победу. Возникает другой вопрос: зачем римляне солгали о своей победе и знал ли об этом сам император? Британский историк Дэвид Мэттингли (David Mattingly) из Лестерского университета объяснил, что римские императоры часто старались произвести впечатление на подданных, поэтому преувеличение военных успехов было скорее нормой, чем исключением. Что касается Октавиана Августа, доподлинно не известно, какой именно отчет он получил от своих воинов. Расстояние между Римом и Суданом — тысячи километров. По мнению ученого, проверить достоверность отчета вряд ли бы кто решился. Скорее всего, римская армия в Египте приукрасила ситуацию, не опасаясь разоблачения. Настоящая проверка настигла Рим спустя всего несколько лет. Кушиты снова выступили против империи, атаковав юг Египта. Во главе армии стояла царица Аманирена — фигура, о которой до сих пор известно крайне мало. Тем не менее ее военный успех оставил заметный след. Тогда Рим предпочел не продолжать конфликт и пошел на мир. Причем условия оказались выгодными именно для Куша: римляне вернули кушитам земли и торговые привилегии. Аманирена оказалась способной не только дать отпор могущественной империи, но и добиться мира на своих условиях.  Исследователи надеются узнать о ней больше из надписей на стелах на мероитском языке, найденных в месте раскопок. Это исчезнувший язык, который был распространен в долине Нила на территории современного Египта и Судана в VIII веке до нашей эры — IV веке нашей эры. Он до сих пор до конца не расшифрован. Одна из самых длинных известных надписей упоминает Аманирену и, вероятно, касается войны с Римом. По словам ученых, именно такие тексты могут, наконец, позволить увидеть события не глазами римлян, а со стороны тех, кто противостоял Риму. Римская империя оставила после себя множество рассказов о собственных победах. Но археология не лжет. Напата уцелела, несмотря на римские заявления. А Куш не только выстоял — он сумел диктовать условия самой могущественной державе своего времени. По версии исследователей, в этой истории все перевернуто с ног на голову: победителями оказались те, кого Рим пытался представить побежденными. | ↑ |
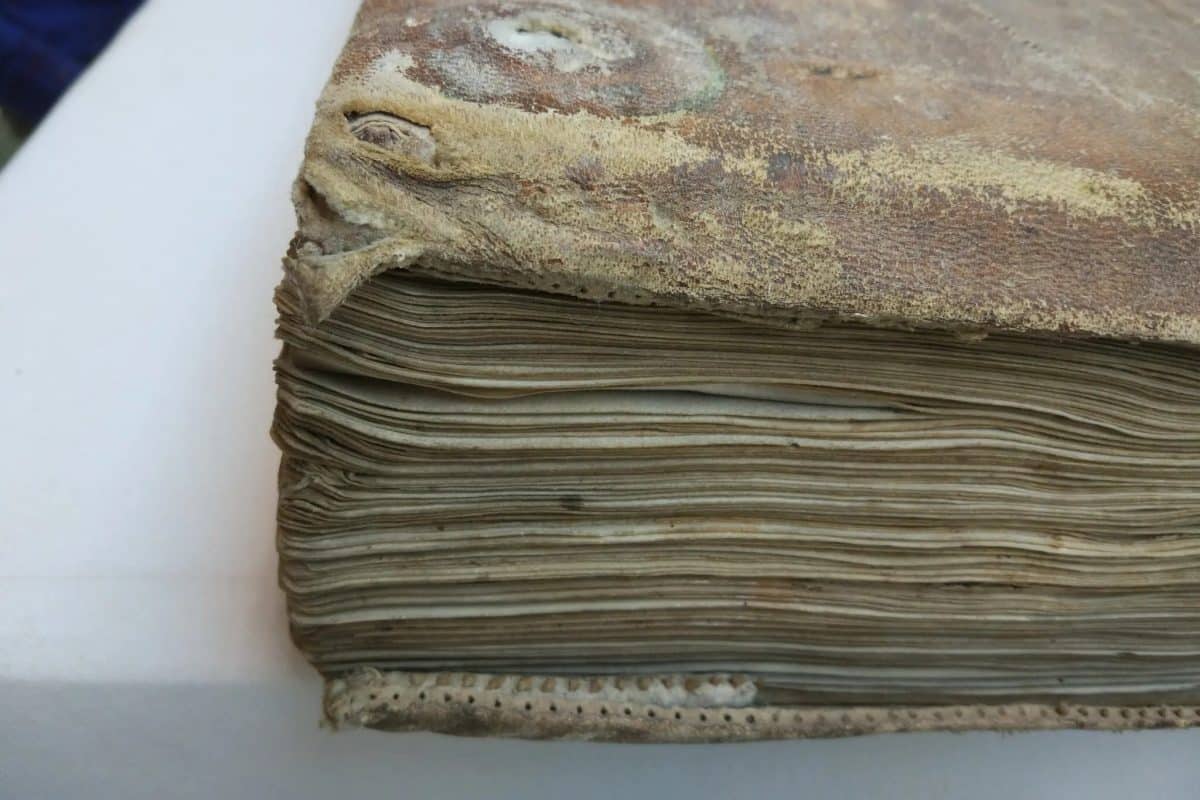 Ученые раскрыли секрет «волосатых» средневековых книг из ФранцииВ темных залах французского аббатства Клерво столетиями пылились книги, обтянутые странной кожей с волосками. Долгое время никто не мог понять, чья шкура защищала старые тексты, пока международная команда ученых не провела анализ. Аббатство Клерво, основанное в 1115 году в регионе Шампань — Арденны, стало центром знаний для монахов-цистерцианцев. Там переписывали и хранили тысячи рукописей: богословские трактаты, исторические хроники, легендарные бестиарии с описаниями мифических существ. К XIII веку библиотека аббатства считалась одной из крупнейших в Европе. До нашего времени дошли приблизительно 1450 книг из этой коллекции. Почти половина из них — с оригинальной обложкой. Книги той эпохи выглядели иначе, чем современные. Их создавали вручную: листы пергамента помещали между деревянными досками и сшивали прочными нитями. Некоторые тома «?закутывали» в дополнительную внешнюю обложку, которые обтягивали кожей. Чаще всего использовали шкуры телят, коз или овец — их тщательно очищали от шерсти, чтобы поверхность оставалась гладкой. Но в Клерво хранились десятки манускриптов с обложками, покрытыми волосками. Они не походили на типичные средневековые переплеты — слишком грубые и «лохматые». Долгое время историки предполагали, что «волосатые» переплеты сделаны из шкур кабанов или оленей. Но когда исследователи детально изучили 16 таких книг, их ждал сюрприз. Международная команда ученых под руководством британского биоархеолога Мэттью Коллинза (Matthew Collins) из Кембриджского университета собрала микроскопические образцы кожи, аккуратно стирая ластиком внутреннюю сторону обложек. Анализ белков и фрагментов древней ДНК выявил, что материал не имеет ничего общего с местными животными. Источником кожи оказались тюлени: образцы принадлежали обыкновенным тюленям (Phoca vitulina), гренландским (Pagophilus groenlandicus), а один даже морскому зайцу (Erignathus barbatus). Генетический анализ показал, что животные могли происходить из Скандинавии, Шотландии, а может, из Исландии или Гренландии. Как шкуры морских животных оказались в монастыре, расположенном далеко от побережья? Ответ кроется в сети торговых маршрутов, связывавших отдаленные уголки континента. Торговцы из Скандинавии доставляли в Европу меха, кожу и жир морских зверей, добытых в северных водах. Аббатство Клерво стояло рядом с оживленным торговым путем, по которому товары из портовых городов попадали к монахам. Сами тюлени ценились не только за кожу, но еще за мясо и жир. Их шкуру часто использовали для пошива водонепроницаемой одежды — например, сапог либо перчаток. В некоторых регионах тюленьи шкуры даже шли в уплату церковных налогов. На побережьях Ирландии и Скандинавии из них иногда делали переплеты для книг. Однако в Западной и Центральной Европе такая практика встречалась крайне редко.  Цистерцианские монахи, судя по всему, особенно ценили тюленьи шкуры. Ученые находили «волосатые» переплеты не только в Клерво, но и в других аббатствах, созданных его учениками. Монахи использовали этот необычный материал для переплета особо важных документов — например, жития святого Бернара, одного из ключевых деятелей ордена. Почему монахи выбирали именно тюленьи шкуры? Возможно, дело в цвете меха. Сейчас эти переплеты выглядят желтовато-серыми или пятнистыми коричневыми. Но изначально они были белыми — шкура некоторых тюленей имеет почти снежный оттенок. Такой цвет совпадал с одеждами монахов, поэтому белоснежные переплеты могли казаться им чем-то волшебным. 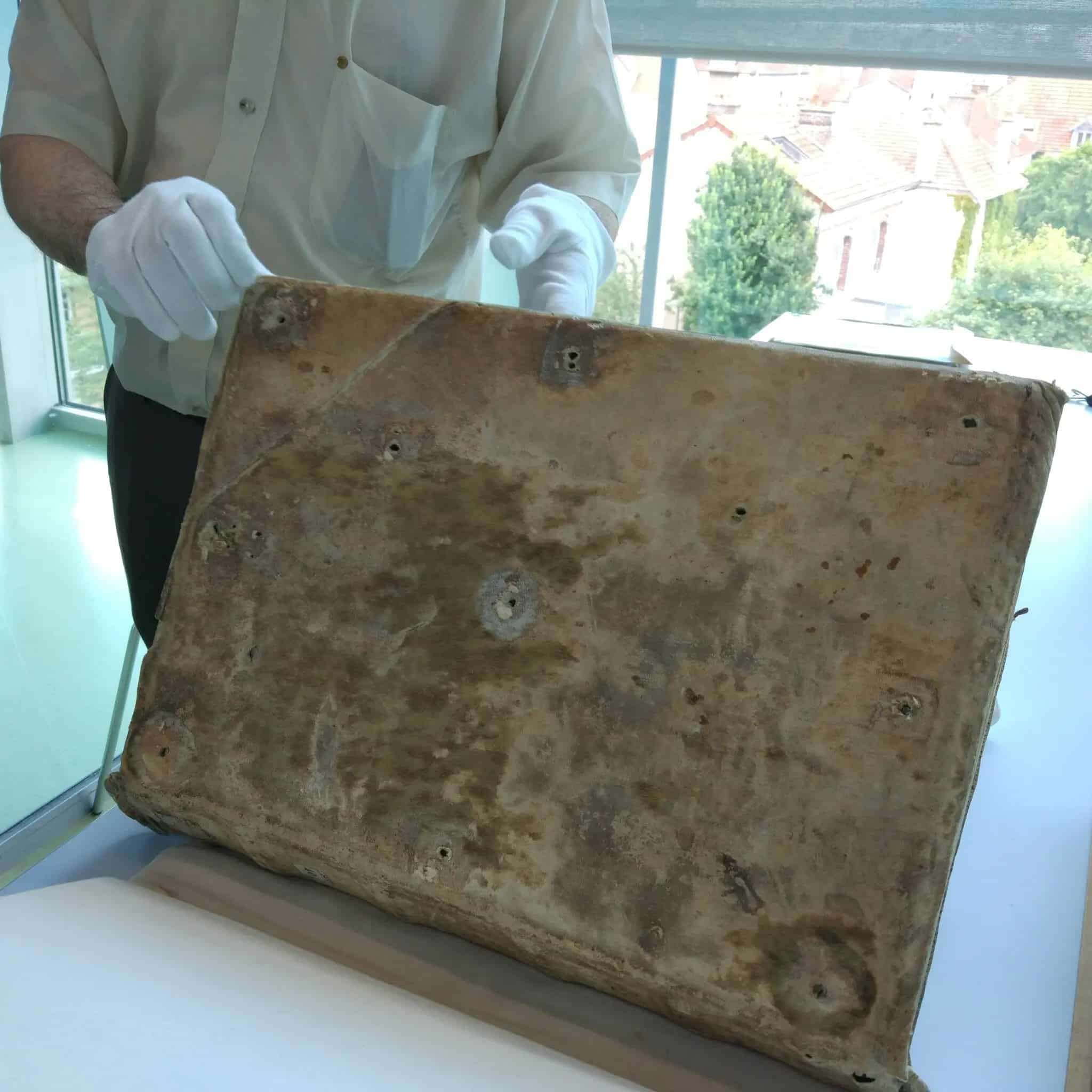 Сами животные тоже выглядели для монахов загадочными. В средневековых бестиариях — книгах о животных — тюленей описывали как «морских телят», рисовали с телом рыбы и головой собаки. Зачастую их изображали в образе фантастических созданий. Вероятно, монахи воспринимали их и не просто как зверей, а как существ с потусторонними чертами. Научная работа с выводами ученых опубликована в журнале Royal Society Open Science. | ↑ |
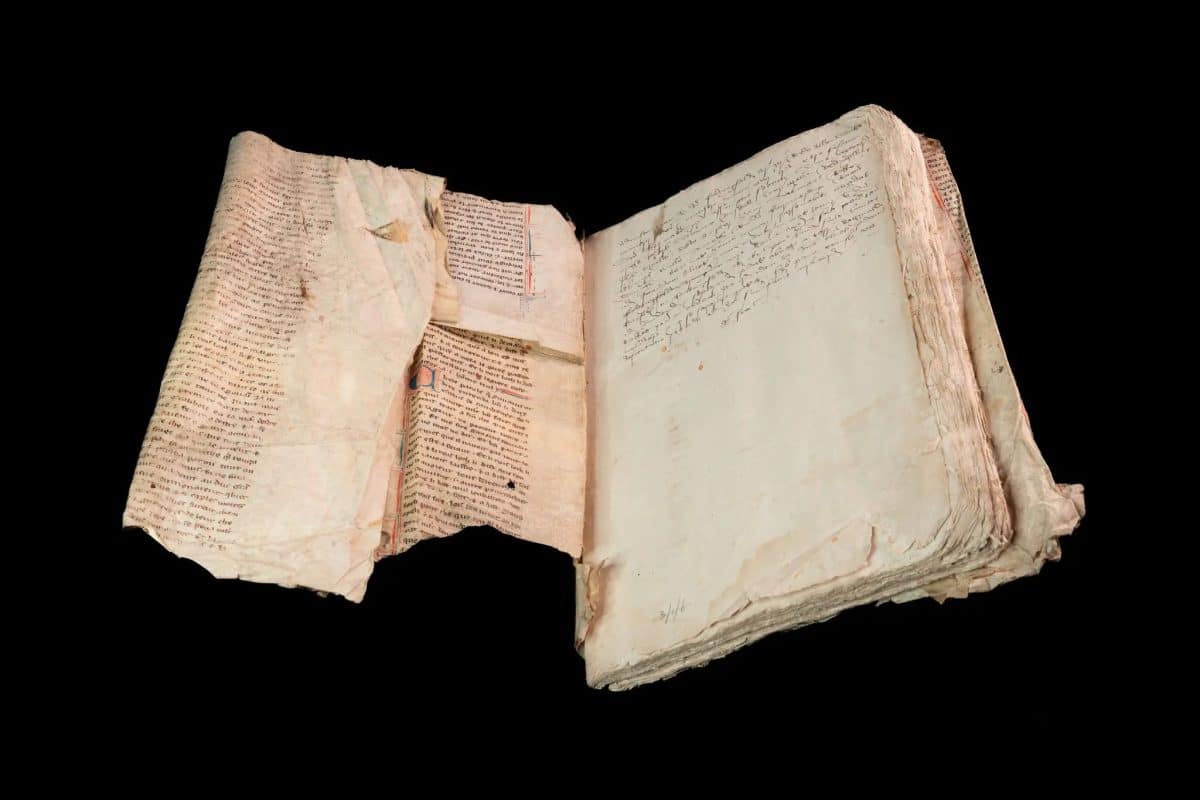 Ученые нашли фрагменты легенд о Мерлине и короле Артуре 700-летней давностиВ архивах английского поместья столетиями пылилась ничем не примечательная книга учета XVI века. Никто не подозревал, что внутри ее переплета скрываются фрагменты пергамента с историями, которые переписывали монахи семь веков назад. Тайна раскрылась, когда архивариус заметил странные символы на обложке. Так началось расследование, объединившее разных ученых. Исследователи три года пытались прочитать текст, не прикасаясь к нему. Теперь они представили результат своего труда — мир получил два ранее неизвестных эпизода о волшебнике Мерлине, короле Артуре и рыцаре Гавейне. Легенды о короле бриттов Артуре и рыцарях Круглого стола, или артуриана, — один из важнейших пластов европейской культуры. О деяниях короля и его окружении пели барды и рассказывали сказочники. Эти истории пересказывали на десятках языков, передавали из уст в уста, фиксировали на бумаге и переписывали. Часто рассказчики вносили в них изменения, дополняли своими деталями. Многие исследователи считают, что первоисточником этих легенд была «История бриттов» валлийского хрониста Ненния, который жил в конце VIII — начале IX века. В средние века артуровские легенды переписывали монахи. Одним из ключевых текстов того времени стал цикл рыцарских романов анонимного автора «Ланселот-Грааль», или «Вульгата», написанный в XIII веке на старофранцузском — языке аристократии после нормандского завоевания Англии. Продолжение цикла «Вульгата» — Suite Vulgate du Merlin. В этих произведениях рассказывается о подвигах волшебника Мерлина после коронации Артура. Истории о Мерлине были популярны в XIII-XIV веках, но до наших дней сохранилось меньше 40 экземпляров Suite Vulgate du Merlin. Каждый сохранившийся экземпляр уникален: переписчики добавляли свои детали, меняли имена героев или сюжетные повороты. К XVI веку легенды перевели на английский, а оригиналы потеряли ценность. Бумага в то время стоила дорого, поэтому старые пергаменты часто использовали как материал для переплетов. Именно так произошло с некоторыми уникальными текстами Suite Vulgate du Merlin, которые долгое время оставались незамеченными. В 2019 году сотрудник библиотеки Кембриджского университета (Великобритания) изучал коллекцию документов поместья Хантингфилд в графстве Суффолк, переданную университету больше 50 лет назад. Его внимание привлекли странные буквы на корешке книги учета XVI века. При ближайшем рассмотрении оказалось, что под слоем кожи и клея скрывается текст на старофранцузском с крупными красными и синими инициалами — признак рукописей эпохи высокого Средневековья. Ученые начали кропотливую работу. Пергамент использовали как переплет: его сложили, сшили и прикрепили к обложке из дерева, обшитой кожей. Прикосновение к артефакту грозило его уничтожением. Тогда разные команды исследователей объединились, чтобы применить цифровые технологии. Им предстояло извлечь, восстановить и расшифровать текст, не повредив хрупкий пергамент. Для этого применили мультиспектральную съемку — технологию, которая использует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Она «проявила» выцветшие чернила, невидимые глазу. Чтобы изучить слои пергамента, не разбирая книгу, исследователи подключили коллег с факультета зоологии. Их мощный рентгеновский сканер — который обычно применяют для изучения окаменелостей или скелетов, позволил «виртуально» проникнуть в слои пергамента и исследовать скрытую структуру переплета. 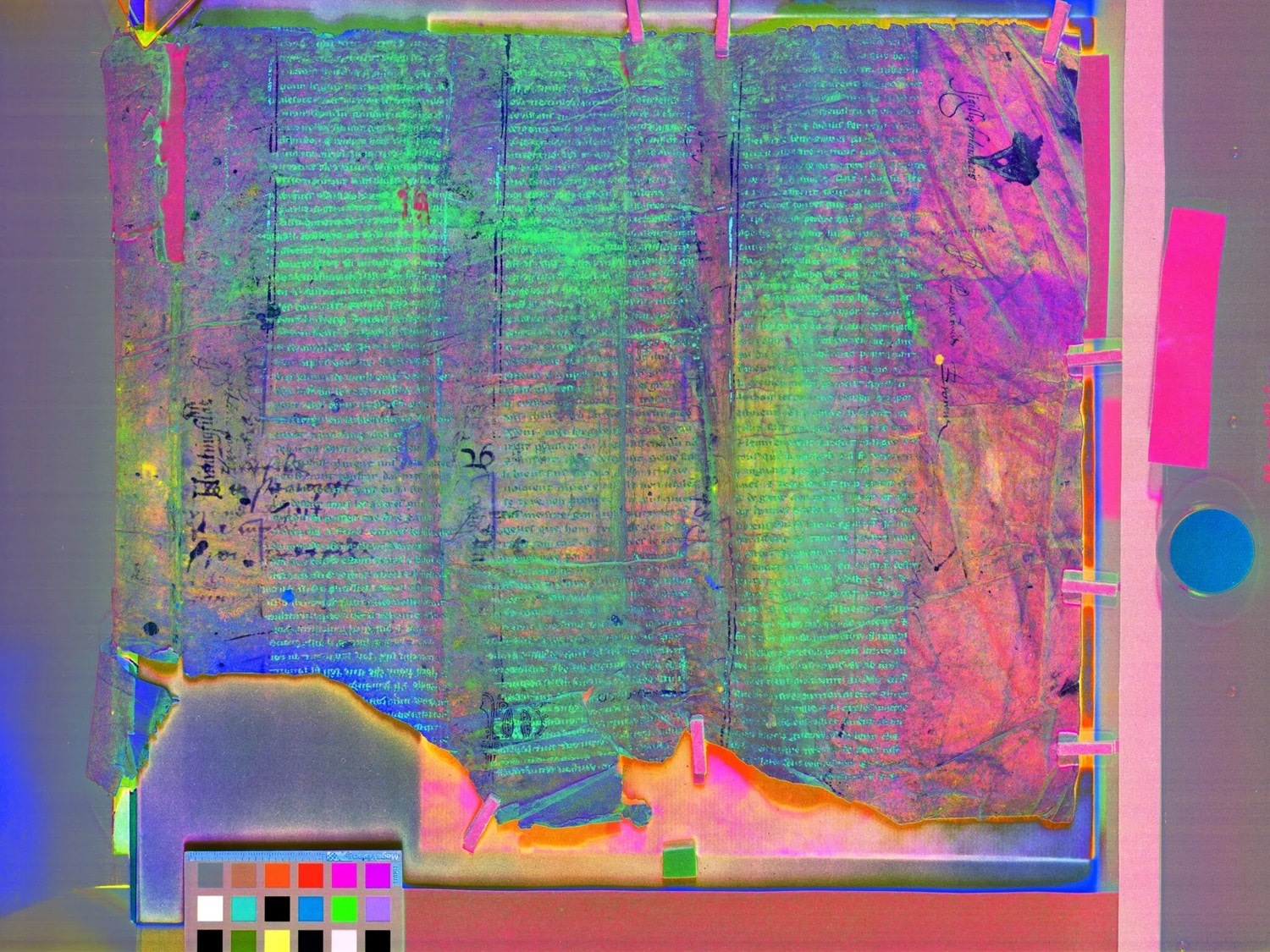 Первоначально исследователи приняли фрагменты за историю о рыцаре Гавейне, но детальный анализ показал, что это часть Suite Vulgate du Merlin, созданная между 1275 и 1315 годами. Текст содержал два эпизода: победу христиан над саксами в битве при Камбенике (The Battle of Cambenic) и появление Мерлина на пиру в Камелоте в образе арфиста. В первом эпизоде рассказывается о борьбе рыцаря Гавейна, его братьев и отца, короля Лота, с саксонскими королями-язычниками Додалисом, Мойдасом, Ориансеном и Брандалусом. Гавейн одерживает победу с помощью меча Экскалибура, коня Грингалета и сверхъестественной силы. Во втором эпизоде речь идет о придворной сцене, разыгранной в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Во время пира при дворе Артура появляется слепой арфист с белой собакой. Его музыка очаровывает Гвиневру и короля. Арфист просит разрешения нести королевский штандарт в битве — роль, равная смертному приговору. Артур соглашается. Позже придворные понимают, что арфист — переодевшийся Мерлин. Благодаря его магии штандарт превращается в огнедышащего дракона, сеющего хаос среди врагов. 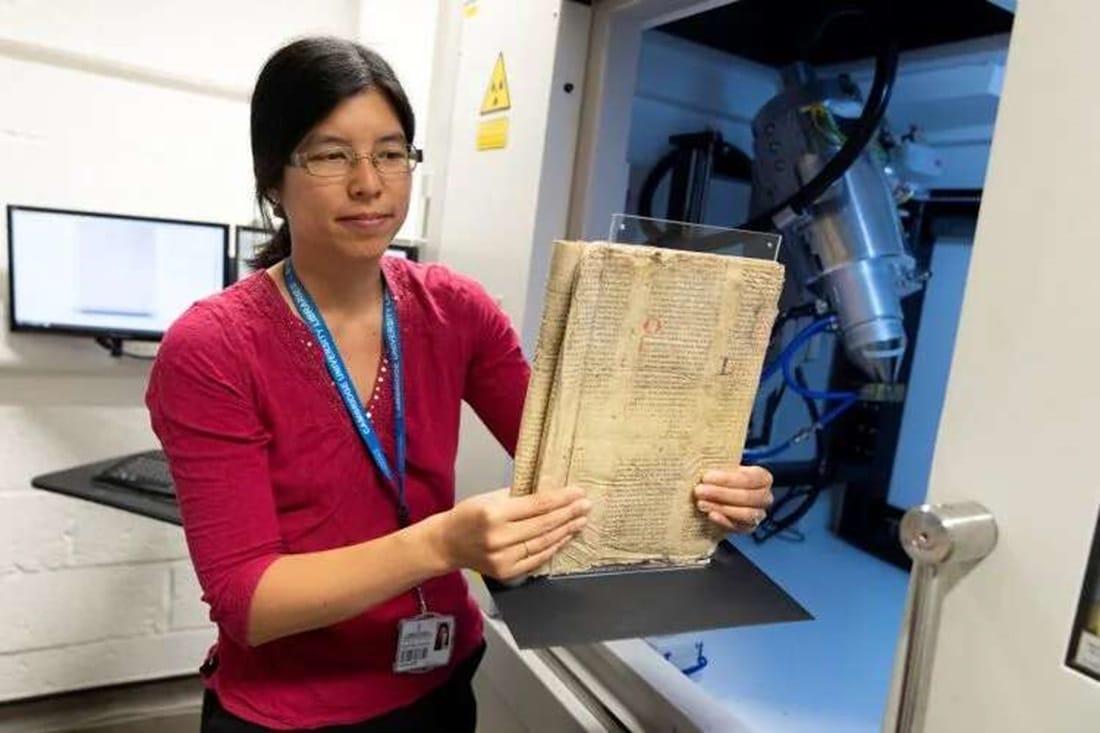 Об открытии говорится в пресс-релизе Кембриджского университета. На сайте учебного заведения в открытом доступе выложены оцифрованные эпизоды Suite Vulgate du Merlin. Фрагменты стали важной находкой для исследователей, изучающих артуриану. Они не только дополняют уже известные версии легенд, но и показывают, как в средние века переписывали и изменяли тексты. Ученые надеются, что изучение этих фрагментов прольет свет на эволюцию артуровских легенд. | ↑ |
 Генетики нашли прародину древних кельтовВ наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков. Генетические исследования последних лет показали, что индоевропейские языки в Европу попали вместе с представителями ямной культуры из степей Причерноморья и Прикаспия. Ямники занимались скотоводством и вели подвижный образ жизни. Мигрируя на запад пять тысячелетий назад, они смешивались с коренным земледельческим населением. Так появились ключевые народы Европы бронзового и железного веков. От смешения степняков-ямников и неолитических земледельцев возникла культура колоколовидных кубков. Есть предположение, что именно эта культура породила несколько индоевропейских диалектов, включая кельтские языки. Согласно генетическим исследованиям, кельтские языки проникали на территорию Британии дважды — 4500 и 3200-2800 лет назад, причем в последнем случае нашли связь с погребениями кновизской культуры в центральной Чехии. В целом же генезис и история кельтских языков между двумя волнами миграции остались невыясненными. Разобраться в проблеме решили ученые во главе с Эске Виллерслевом, представляющем сразу три организации — Университет Копенгагена (Дания), Кембриджский университет (Великобритания) и Бременский университет (Германия). Их статья размещена на сайте электронного архива научных статей и препринтов по биологии bioRxiv.org. 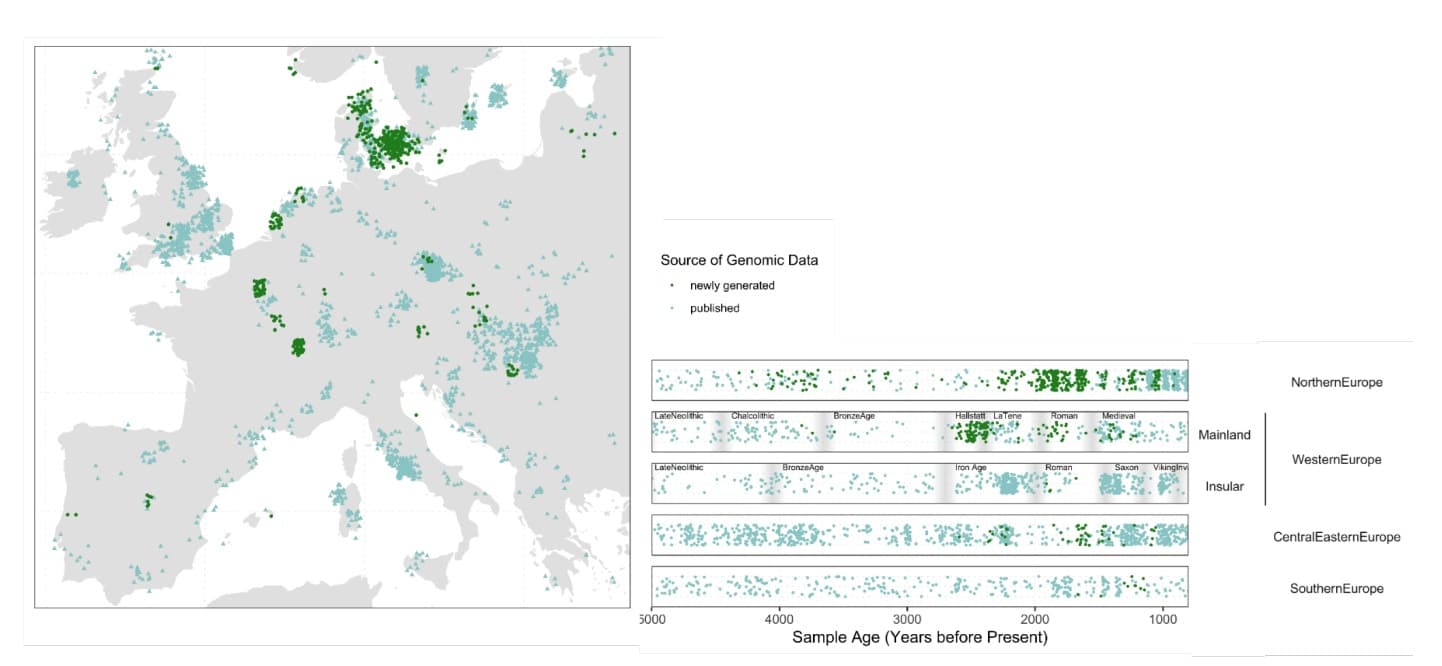 Исследователи проанализровали 4587 геномов с помощью идентичных по происхождению блоков (shared identity-by-descent). Сюда вошли 752 новых генома, из которых 126 происходят из Франции, Германии, Австрии, с Британских островов. Как пояснили авторы, есть три модели экспансии кельтских языков. Согласно первой, они распространялись начиная с позднего неолита вдоль атлантической Европы через культуру колоколовидных кубков. Вторая модель предполагает их более позднее появление с территории Франции, Иберийского полуострова или севера Италии. Либо кельтские языки это продукт поздней бронзы — раннего железного века, сформировавшийся в среде гальштатской и латенской культур в центральной Европе. Сначала генетики очертили территорию распространения культуры колоколовидных кубков в бронзовом и железном веках, в пределах которой формировались кельтские языки. Затем проследили миграции родственных народов внутри этой обширной области. В этом помогли кластеры геномов, содержащие примеси коренных земледельцев неолита. Всего выделили три «земледельческих» кластера, послуживших маркерами генетических линий. Для начального анализа взяли образцы с предполагаемых прародин кельтов — Британских островов и Ирландии, Франции, Иберийского полуострова, Чехии. Добавили материал из эпохи неолита, бронзового века Анатолии, от ранних анатолийских земледельцев, культуры шаровидных амфор в Польше. Аналогичные датасеты составили для более поздних периодов и детально откартировали волны миграций. Нужно пояснить, что кельты кремировали умерших, поэтому их ДНК позднего бронзового века очень мало. Только представители кновизской культуры из Чехии сжигали не всех, что позволило восполнить пробелы. Моделирование подтвердило догадку о том, что кельтские языки распространяли народы, связанные с культурой полей погребальных урн центрально-восточной Европы в позднем бронзовом веке. Оттуда они принесли их во Францию, Британию, на Иберийский полуостров, в Италию. Линия, проявившаяся позднее в кновизской культуре и давшая, вероятно, начало кельтским языкам, зародилась четыре-три тысячи лет назад. В ней обнаружили особенно сильный «земледельческий» сигнал, родом из Италии с позднейшей примесью анатолийцев. Затем с 3200 по 2800 лет назад эта линия распространилась по всей западной Европе и позднее (2800-2500 лет назад) влилась в гальштатскую культуру Франции, Германии, Австрии. | ↑ |
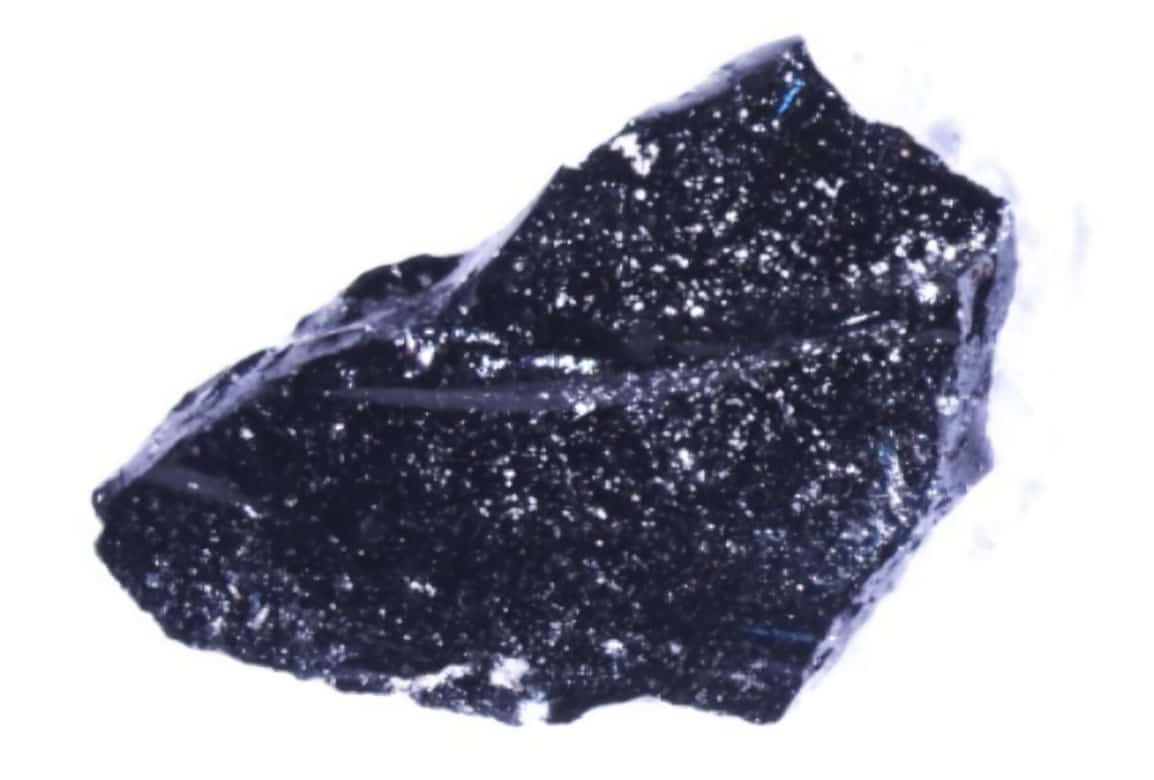 Раскаленный пепел Везувия превратил в стекло мозг жителя ГеркуланумаМеждународная группа ученых описала уникальный случай превращения тканей человеческого мозга в стекло органического происхождения во время извержения Везувия. Фрагменты, внешне похожие на обсидиан, ранее обнаружили в черепе одной из жертв природной катастрофы в древнеримском городе Геркуланум. Как и Помпеи, он был погребен под слоем пирокластических потоков осенью 79 года нашей эры. Статью об открытии специалистов из Италии и Германии опубликовал журнал Scientific Reports. Предполагается, что погибший, чьи останки стали предметом исследования, был молодым мужчиной примерно 20 лет. Он мог служить охранником в здании Коллегии августалов (жрецов императорского культа) в Геркулануме, где нашли его скелет. Чтобы удостовериться, что стеклоподобные фрагменты из черепа и позвоночника жертвы извержения Везувия когда-то были человеческим мозгом, ученые детально проанализировали их, используя электронную микроскопию, калориметрию и рамановскую спектроскопию. Химический состав и присутствие в образцах белков и жирных кислот, характерных для мозговой ткани, подтвердили предположение об их органическом происхождении. Кроме того, исследователи обнаружили хорошо сохранившиеся элементы нейронных структур, включая нервные клетки (нейроны) и их отростки (аксоны). Также выяснилось, что для превращения в стеклообразное состояние ткани должны были быстро нагреться до температуры в 510 градусов Цельсия, а затем стремительно остыть. Исследователи смоделировали, как это могло произойти. Вероятно, сначала тело мужчины на непродолжительное время попало под воздействие очень горячего облака пепла. Кости черепа и позвоночника частично защитили мозг от прямого контакта с раскалёнными вулканическими выбросами, не допустив полного испарения тканей. Когда пепел осел, температура упала, что позволило мозгу «остекленеть». Схожим образом после остывания затвердевает расплавленное жидкое стекло. Позднее тело накрыли пирокластические потоки с температурой до 465 градусов Цельсия.  Говоря о важности исследования, ученые подчеркнули, что это единственный известный случай, когда ткани человеческого мозга сохранились в стекловидной форме. В районе Везувия нашли примерно 2000 тел, но подобных примеров больше не встречалось. Органика может переходить в стекловидное состояние во время криоконсервации — сверхбыстрого замораживания при температуре -120 градусов Цельсия. В Геркулануме все случилось в экстремальных условиях вулканического извержения и высоких температур, которые, как правило, полностью разрушают мягкие ткани. Это также делает описанный случай исключительным. Новые открытия ученых дополняют уже имеющиеся знания о том, какие физические процессы происходили во время извержения и как погибали жертвы Везувия. Ранее несколько научных групп реконструировали события, совместив результаты археологических раскопок с тем, как природную катастрофу описывал Плиний Младший. Ученые сошлись во мнении, что у извержения было несколько фаз. Сначала Везувий выбросил огромный столб пепла и пемзы, которые покрыли местность плотным слоем. Чуть позже сошли пирокластические потоки. Это извержение продолжалось 18-20 часов. Затем, после небольшого затишья, началась третья фаза — пелейское извержение, которое также сопровождалось землетрясением. | ↑ |
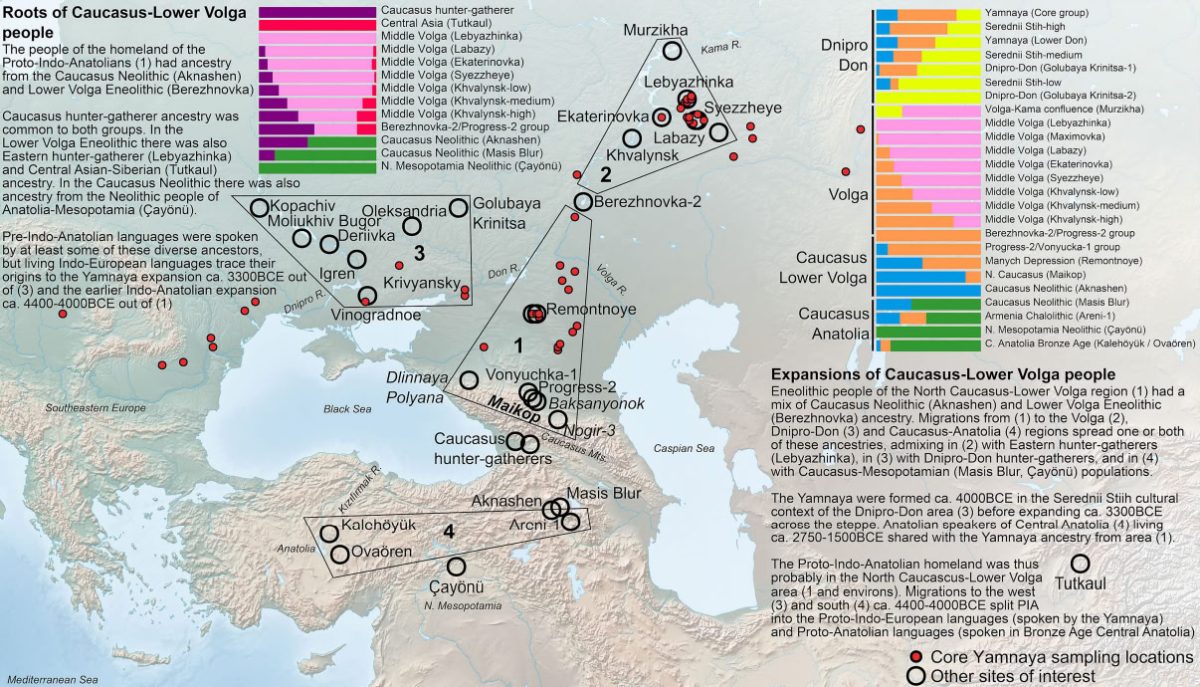 Генетики перенесли прародину индоевропейцев на УкраинуИсследование сотен образцов древней ДНК показало, где и когда сформировалась общность ямной культуры, первых индоевропейцев, устроивших массовую экспансию на запад и восток и определивших облик современного человечества. На протяжении всей истории человечества скорость развития разных его частей резко различалась. Если Новый Свет толком так и не вышел из неолита, Австралия — из палеолита, то исходно немногочисленные предки современных китайцев, индоевропейцев и афразийцев создали почти все цивилизации древности. Однако у наиболее влиятельной (до XXI века) из этих ветвей, индоевропейской, достаточно запутанная история: ученые до сих пор спорят, где, когда и как сформировались индоевропейцы. В последние десятилетия, в основном благодаря анализу ДНК, стало ясно, что перед завоеванием Индии и Западной Европы индоевропейцы проживали на территории ямной культуры — в степях близ Черного моря и Каспия. Приблизительно в 3300 году до нашей эры они вторглись в прилегающие к ним с запада области Европы (до Атлантики), создав культуру шнуровой керамики, а также в степи современной Хакасии (афанасьевская культура). Но то, что древнейшие индоевропейцы были ямниками, отвечало лишь на часть вопросов об их происхождении. Возник другой вопрос: из кого, как и когда образовались сами ямники, первые изобретатели телег с колесами, скотоводы с мотыжным земледелием и бронзовой металлургией? Особую сложность в вопрос внесла высочайшая для той эпохи мобильность ранних индоевропейцев: в их курганах археологи находили скелеты со следами ДНК из огромного количества регионов, от Сибири и Анатолии до Загроса и Закавказья. Правда, удельный вес генов из этих регионов резко различается. Авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Nature, проанализировали ДНК 435 человек той эпохи (более 80 процентов из них — с территории современной России), чтобы разобраться в происхождении ямной культуры. Удалось выявить основные группы их предков и «удельный вес» этих групп. В связи с этим ученые посчитали, что выяснили, в какой именно группе и когда на самом деле возникла индоевропейская общность. Примерно 80 процентов генов всех ямников вывели из групп, живших за четыре-пять тысяч до нашей эры в районе от Нижней Волги до Кавказа. Около 4000 года до нашей эры часть из них мигрировала к Днепру, где смешались с местными охотниками-собирателями, образовав среднестоговскую культуру. Лишь 20 процентов генов будущих ямников происходили от приднепровских охотников-собирателей. Но авторы исследования почему-то считают именно это слияние у Днепра точкой формирования предков ямной культуры в целом. По всей видимости, так произошло потому, что при последующей экспансии ямников в ДНК из обнаруженных скелетов почти нет следов смешивания с местными жителями, в то время как в районе среднестоговской культуры следы такого смешивания есть. Ученые отметили, что в начале периода 3650-3350 годов до нашей эры численность ямников была небольшой — всего несколько тысяч человек. Напомним, что сегодня на индоевропейских языках говорит примерно 40 процентов землян. Вслед за этим в этом сообществе случился взрывной демографический рост: к 3300 году до нашей эры их было примерно на порядок больше, чем к 3600 году до нашей эры. 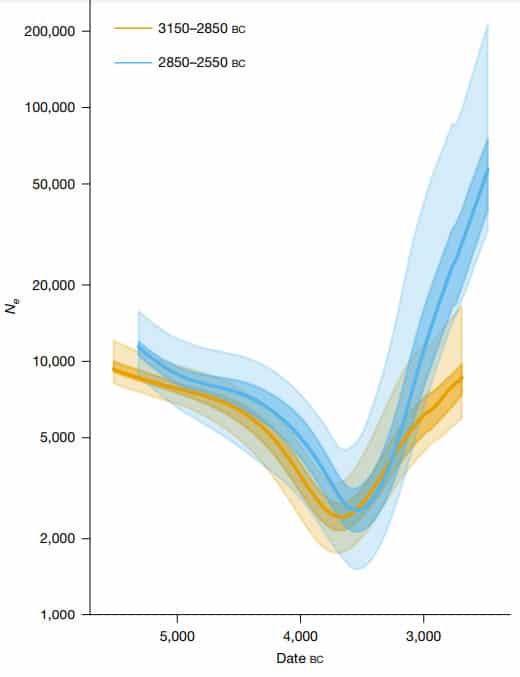 Сразу после 3300 года до нашей эры они распространились на территорию современной Хакасии и Западной Европы, а также в Малую Азию. Ученые предположили, что эта быстрая экспансия стала результатом каких-то технологических или культурных инноваций, возникших в среднестоговской культуре незадолго до 3300 года до нашей эры. Группа Нижней Волги — Кавказа оставила свой генетический след как в Закавказье, к 4000 году до нашей эры, вероятно, поучаствовав в формировании ядра будущих армян, так и в Анатолии, где 10 процентов генов хеттов произошли именно от этой группы. Авторы новой статьи предположили, что общность носителей протоиндоанатолийского языка сложилась в группе Нижней Волги — Кавказа между 4400 и 4000 годами до нашей эры. Получается, индоевропейское происхождение имеют и хетты, и ямники, но в генах хеттов следов «ядра» ямников из района Днепра мало. Новое исследование, если его тезисы не будут оспорены более поздними находками, претендует на то, чтобы поставить точку в вопросе о прародине «классических» индоевропейцев, устроивших экспансию, в конечном счете определившую облик современного человечества. В то же время дальнейшая история индоевропейцев все еще оставляет много не вполне ясных и запутанных мест. Например, индоиранская ветвь индоевропейцев происходит не напрямую от ямников, но из народов культуры шнуровой керамики, образовавшейся после вторжения ямников в Западную Европу. Из нее предки индоиранцев долго мигрировали обратно на восток, откуда и попали в Индию и Иран. О некоторых аспектах истории культур шнуровой керамики и ее соседей Naked Science писал здесь. | ↑ |
 Математики предложили свое прочтение «Одиссеи» ГомераУченые неоднократно подходили к произведениям искусства со своими инструментами и концепциями в поисках скрытых авторских замыслов. Иногда находят на картинах редкие природные явления или законы физики, которые еще не были достаточно сформулированы. В новой статье группа исследователей проанализировала путешествия Одиссея в классической поэме Гомера и нашла, что автор следовал фундаментальным идеям устройства Вселенной, которым подчиняются физические и математические системы. Искусство и наука при всей кажущейся непохожести и условном делении на «лириков» и «физиков» родственны в одном — это способы познания мира. И наука нередко интересуется творческой жизнью, иногда буквально пытаясь ее объяснить или увидеть в ней отражение формул и законов. Например, больше десяти лет назад группа исследователей разглядела в известной японской гравюре «Большая волна в Канагаве» волну-убийцу, достигающую высоты в 20-30 метров. А в «капельных» картинах американского экспрессиониста Джексона Поллока физики обнаружили фракталы, которые масштабировались в течение всей творческой жизни художника. На этот раз математики заинтересовались смыслом древнегреческой поэмы Гомера «Одиссея». Переоценить ее важность для мировой литературы сложно — заглавие стало нарицательным для долгого путешествия, не говоря уже о множестве переосмыслений и интерпретаций, вдохновленных этой историей. Сюжет книги, если коротко, состоит в возвращении царя Итаки Одиссея с Троянской войны на родину. За 10 лет странствий он впутывается в различные приключения: то попадает в пещеру циклопа-людоеда Полифема, то спускается в царство мертвых, где узнает свою судьбу, то томится на острове нимфы Калипсо, тоскуя по жене и дому.  Но не станем затягивать с пересказом и уходить в сторону толкований и литературоведческих изысканий. Остановимся на идее, предложенной учеными — их статья, к слову, опубликована в журнале Perspectives of Earth and Space Scientists. Авторы научной работы проанализировали путь Одиссея и особенно рассмотрели причины, заставляющие его двигаться в том направлении, в котором он двигался. В частности, они обратили внимание на ветры, управляющие судном, несущим героев из Трои. Некоторыми потоками, что важно, управляли боги — то гневаясь на Одиссея и команду, то милуя их и позволяя плыть спокойно. Специалисты изучили четыре реконструкции маршрута путешественников, основанных на различных переводах. Поначалу они сами попытались это сделать, но им мешала размытость сведений (к примеру, страна великанов-людоедов лестригонов в зависимости от прочтения кочует от Сицилии до Кубы).  Затем исследователи составили карту Средиземноморья и отметили на ней 14 ключевых сюжетных точек, которые посетил Одиссей. Четыре реконструкции сходились лишь в трех пунктах: город Исмара, где жили киконы — Фракия, Греция; местонахождение народа лотофагов, людей, поедающих лотосы — остров Джерба, Тунис; координаты Сциллы и Харибды — Мессинский пролив между Сицилией и Калабрией, Италия. Насчет остальных точек интерпретации расходятся порой на тысячи километров, иногда противореча «данным» Гомера. На этом этапе математики заключили, что восстановить путь Одиссея невозможно — и сосредоточились на идеях Гомера. Вопрос «Что хотел сказать автор?» далеко не такой праздный, как принято считать. Ученые, опираясь также на текст «Иллиады», посвященный Троянской войне («Одиссея» стала сиквелом этой истории), попытались выяснить, что Гомер пытался донести до читателей. Они соединили две концепции.  Первая объясняет причину, по которой греческий воин Аякс выходит сразиться с троянцем Гектором — жребий. Он указывает на случайность, диктующую ход истории. Погода как хаотическая система или неконтролируемые действия экипажа корабля тоже объясняются случайностью — она движет сюжетом «Одиссеи». В то же время существуют ветры, контролируемые богами или маршрут, обозначенный звездами. По мысли ученых, в этом заложена идея детерминизма (вторая концепция), взаимосвязанности всего сущего, причинно-следственных связей между процессами и явлениями. «С нашей точки зрения, Гомер пытается донести до нас, что случайность и детерминизм связаны между собой, — объясняют свой вывод авторы научной работы. — Эта синергия между правилами и случайностью делает их обоих одинаково важными во Вселенной. Одно не может существовать без другого. Они переплетаются друг с другом, как факты и вымысел в романе. Удивительно, как великие писатели и художники, не имея никакой подготовки в области математики и физики, проявляют свою интуицию в отношении какой-то неизвестной математической или физической концепции». | ↑ |
 Исследование греческого болота переписало историю ЭлладыНемецкие и греческие исследователи обнаружили, что уже в 3200 году до нашей эры осадочные отложения в греческих болотах содержали тяжелые металлы. Речь идет о самых старых следах такого рода, когда-либо зафиксированных учеными. Результаты нового исследования заставляют существенно пересмотреть историю региона. Традиционно история балканского региона и Древней Греции отсчитывают началом бронзового века от 3100 года до нашей эры. Все, что до этой даты, относят к медному или меднокаменному веку — когда каменные орудия использовали наравне с кованными медными, поскольку тех не хватало. Переход к бронзе произвел поистине революционные изменения в развитии цивилизации, поскольку новые орудия резко упростили хозяйственную деятельность и войны. Недавно международная группа ученых исследовала следы свинца в отложениях из болот Тенаги-Филиппон на севере Греции и Эгейского моря (рядом с Пелопоннесским полуостровом). Удалось показать, что на деле сложная металлургия в регионе появилась не позднее 3200 года до нашей эры. Речь идет о древнейших следах антропогенного загрязнения металлами в истории — они на 1200 лет древнее любых более ранних результатов. Научная работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment. Свинец в Древнем мире редко был предметом добычи сам по себе. Но он часто встречается в медных и серебряных рудах. Чтобы избавиться от свинцовой примеси, используют купелирование — пропуск воздуха над расплавленной рудой. Свинец, плавящийся при плюс 327 градусах, всплывает как жидкая пленка, которую постоянно снимают разными средствами. При этом часть металла неизбежно испаряется и дальше в виде микрочастиц далеко разносится по воздуху. Ранее Naked Science описывал, как массовое купелирование в Древнем Риме привело к некоторому снижению IQ у его жителей. Однако до сих пор ученые считали, что достаточно масштабное антропогенное загрязнение свинцом начинается поздно: оно требует массовой добычи серебра и меди, что типично для довольно богатых обществ. Авторы новой работы обнаружили отчетливый скачок в уровне свинца в донных отложениях болота Тенаги-Филиппон на севере Греции уже в 3200 году до нашей эры. До сих пор самая ранняя фиксация таких загрязнений относилась к 2000 году до нашей эры на Балканах и к 600 году до нашей эры в гренландских льдах. Одновременно слегка меняется структура пыльцы, фиксируемой в тех же отложениях. Следов широколиственных деревьев становится чуть меньше. Между 1100 и 800 годами до нашей эры загрязнение свинцом резко падает, практически к доантропогенным значениям. В истории Древней Эллады этот период известен как Темные века. Это время вторжения дорийцев, покинутых крепостей и поселений, гибели сложной городской культуры. Затем свинец снова появляется и остается на примерно одинаковом уровне до 150 года до нашей эры. После этого момента становится много меньше пыльцы широколиственных деревьев, особенно дубов, а уровень загрязнения свинцом показывает взрывной рост. Становится куда больше пыльцы злаковых сельхозкультур, винограда, оливы, ореховых. Ученые посчитали это результатом римского завоевания Греции в II веке до нашей эры. Римское государство активнее чеканило серебряную монету, а вслед за ее притоком в завоеванные провинции росло производство оливкового масла, хлеба, орехов. Дубы активно вырубали на дрова, которые давали высокую температуру, да и при строительстве это дерево в римское время высоко ценилось.  Примерно во времена Антониновой (165-180 годы нашей эры) и Юстиниановой (541-549 годы) чумы уровень свинца снова падал, зато вырос показатель пыльцы дикорастущих деревьев. Считается, что в обеих этих эпидемиях гибло по несколько десятков процентов населения Римской и Византийской империй, что объясняет и хозяйственный спад. После 1200 года уровень свинца постепенно снижается, а после 1400-го падает практически к греческим Темным векам или периоду до старта бронзового века. Очевидно, османское завоевание остановило сложную металлургию в регионе. Исследователи отметили, что севернее на Балканах следы свинца в отложениях в эту эпоху не исчезают: видимо, там сложная металлургия сохранилась. Судя по этим данным, старт бронзового века в регионе скорее относится к 3200 году до нашей эры, чем к 3100-му. Причем он мог сопровождаться широким использованием серебра с самого начала, чего до сих пор никто не предполагал. Также ясно, что римское завоевание региона придало ему существенно больший экономический импульс, чем можно было бы судить на основании одних только письменных источников. Спад свинцового загрязнения в период Антониновой и Юстиниановой чумы, исходя из новых данных, был намного более резким, чем казалось ранее, когда были доступны лишь следы свинца из гренландских льдов. | ↑ |
 Почему Красная армия не взяла Берлин зимой 1945 года, хотя вполне могла?Восемьдесят лет назад советские войска провели свою самую результативную операцию за всю войну — Висло-Одерскую. Тогда же появилась возможность захватить Берлин, значительно приблизив победу. Георгий Жуков, вместо того чтобы воспользоваться ситуацией, наоборот, запретил наступление на немецкую столицу. Был ли он прав? Или, напротив, прав был Василий Чуйков, командовавший армией, шедшей на Берлин, и до конца жизни считавший, что Жуков не дал ему закончить войну быстрее, чем вышло на самом деле? Восемьдесят лет назад, 14 января 1945 года, 1-й Белорусский фронт под командованием Георгия Жукова начал свое участие в Висло-Одерской операции. Хотя сделал он это на двое суток позже 1-го Украинского, действовавшего к югу, двигался вперед намного быстрее, отчего зашел куда дальше. Настолько далеко, что Василий Чуйков, командовавший 8-й Гвардейской армией на направлении главного удара, в 1964 году прямо говорил и писал: «Наши войска… могли бы в начале февраля развить дальнейшее наступление на Берлин, пройти еще восемьдесят-сто километров и закончить эту гигантскую операцию взятием германской столицы с ходу». Жуков отреагировал горячо: «В. И. Чуйков построил свои воспоминания так, чтобы, прежде всего прославить себя и опорочить мою деятельность как представителя Ставки ВГК и командующего Первым Белорусским фронтом в период проведения Висло-Одерской и Берлинской операции».  На публичных дебатах по этому вопросу резко выступили против тезисов Чуйкова и многие генералы 1-го Белорусского, но тот не впечатлился и в конце дебатов сказал, что все равно уверен в своей правоте. В XXI веке историк Исаев оценил заявления Чуйкова так же негативно: советские войска «вряд ли бы дошли до города и подняли знамя над Рейхстагом. Это практически однозначно».  Аргументация Жукова, его генералов и того же Исаева выглядит разумно: 1-му Белорусскому фронту, если бы он пошел на Берлин, угрожал удар с севера, от немецкой группировки в Померании. Что хорошего в походе на столицу врага, если под ее стенами ты попадешь в котел, как Красная армия в 1920 году близ Варшавы? Однако к концу этого текста читатель, скорее всего, встанет на сторону Чуйкова, а «верхние штабы» станет считать виновниками серии очень грубых ошибок. Попробуем разобраться почему. Почему вообще во время Висло-Одерской операции возник шанс на взятие Берлина?На первый взгляд Висло-Одерская операция (12 января — 3 февраля 1945 года) — образец для любой глубокой операции: и в 2025 году нет ни единого примера такого же размаха, скорости и числа участников. Войска Жукова 14 января начали наступать от Вислы, а уже 31 января оказались на западном берегу Одера. Полтысячи километров за 17 дней против сильнейшей армии окружающего СССР мира — очень значимый результат. 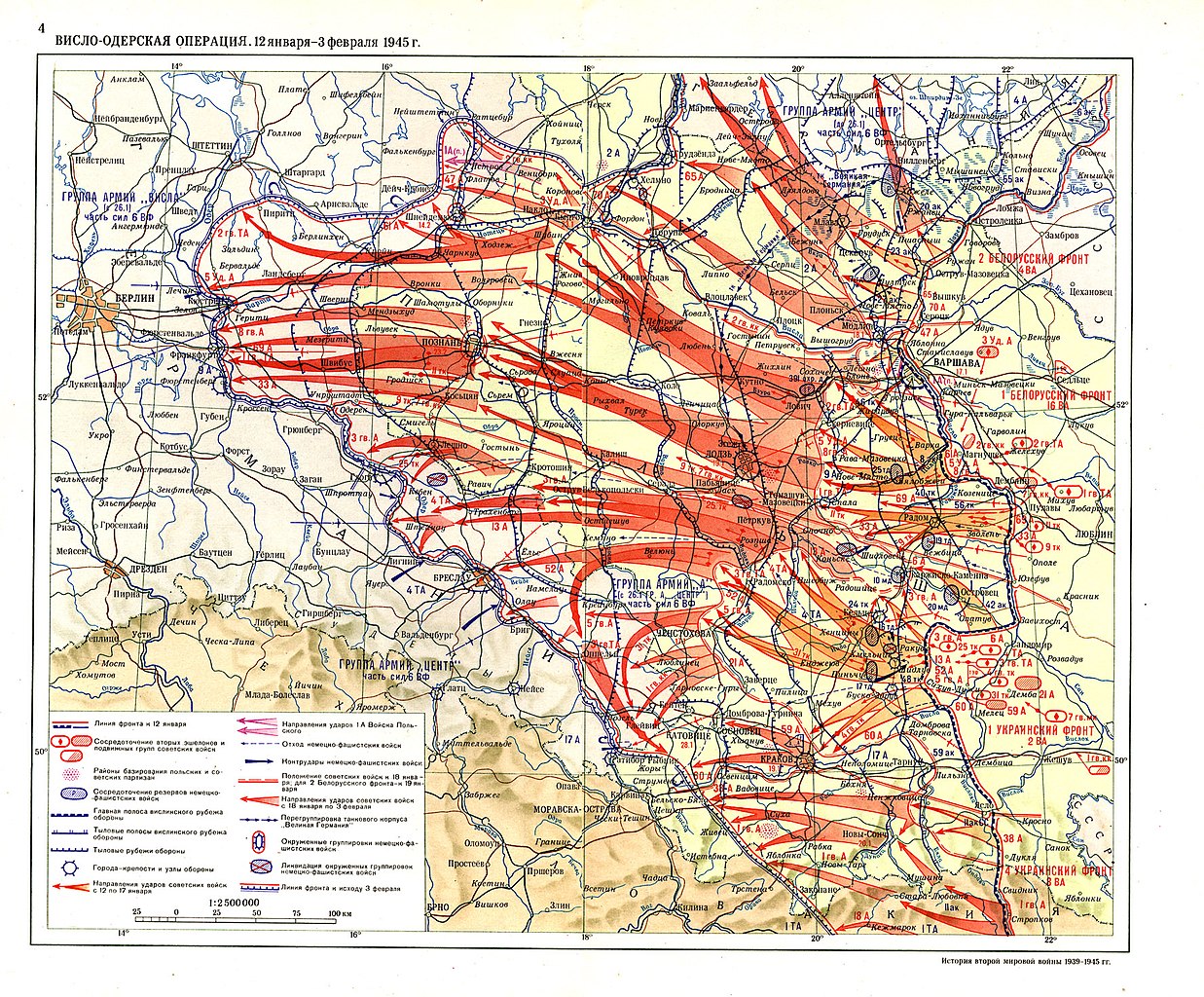 Блеск жуковского руководства легко видеть, если сравнить его успехи с соседним 1-м Украинским фронтом под командованием Конева. Фронт Жукова в операции из 1,12 миллиона человек потерял 17 тысяч убитыми — 1,55 процента. Фронт Конева из 1,08 миллиона человек — 26 тысяч, или 2,42 процента. При этом Жуков за 19 суток своего участия в операции продвинулся на 500 километров, а Конев за 22 суток — только на 400 километров. Причины жуковских успехов, если почитать мемуары работавших с ним людей, достаточно понятны: «…мы вели постоянную и целеустремленную разведку. Ни в одной операции [Великой Отечественной войны] до этого она не была поставлена так, я бы сказал, фундаментально. Командующий фронтом Г. К. Жуков уделял ей исключительное внимание, он потребовал от нас вскрыть характер и систему обороны противника на всю тактическую глубину…» Его фронт точно знал, когда противник отводит смены в тыл, и нанес удар в то время суток, когда в траншеях был максимум людей. Участники событий вспоминают первые траншеи, из которых не было выстрелов: перепрыгивая их, советская пехота видела там только немецкие трупы. Это и неудивительно, потому что по количеству артстволов Красная армия намного превосходила Вермахт, хотя немецкая промышленность и была значительно сильнее советской.  У соседних фронтов так не получилось: они менее тщательно провели разведку первой линии, и в ряде случаев их артподготовка пришлась по почти пустым окопам, слабо затронув глубину. Не менее важная отличительная черта жуковского руководства: он ориентировал танковых командиров обходить узлы сопротивления противника, даже если там десятки тысячи солдат, и двигаться дальше, не опасаясь за свои тылы. А обойденные узлы сопротивления добивали уже пехотные армии. У Ивана Конева на фронте такие обходы были несколько реже, часто танкисты теряли лишнее время, выбивая противника из городов — дорожных узлов. Но эта же скорость создала и описанные выше напряженные дебаты: а могла ли Красная армия тогда не просто выйти к Одеру в январе 1945 года, но и взять в середине февраля Берлин?  Чем быстрее наступают войска в глубокой операции, тем ниже их потери. Ведь противник, выбрасывая свои резервы к фронту, при высоком темпе наступления не успевает занять ими оборону, окопаться. Наступающие танковые клинья застигают резервы в открытом поле, расстреливают их с ходу, давят гусеницами, рассеивают. В результате тот, кто наступает быстрее, получает все меньше сопротивления: резервы противника ведь не бесконечны.  Чуйков, а за ним и Жуков в мемуарах отмечают, что в результате всего этого к началу февраля 1945 года на берлинском направлении у противника остались очень малые силы: занять город было можно. Жуков прямо говорит: еще 26 января того года он внес в Ставку предложение бить на Берлин без остановки. И та это решение утвердила. И до самых первых чисел февраля все в этом направлении и шло. Жуков 4 февраля отдал войскам «ориентировку»: «Противник перед 1-м Белорусским фронтом каких-либо крупных контрударных группировок пока не имеет. Противник не имеет и сплошного фронта обороны… Задачи войск фронта… стремительным броском 15-16 февраля взять Берлин». Выходит, Чуйков и Жуков до самого конца Висло-Одерской операции мыслили одинаково: она не должна быть Висло-Одерской, она должна стать Висло-Эльбинской. Нужно брать Берлин. Почему РККА не взяла Берлин в феврале 1945 года: версия Жукова и всех-всех-всехВ точке 4 февраля произошел перелом в настроениях Жукова и большинства советских генералов. Георгий Константинович объясняет его просто: противник создал ударную группировку на северном, голом фланге 1-го Белорусского фронта, в Померании, и хотел ударом оттуда срезать советский клин, тянувшийся к Берлину. Звучит угрожающе, но есть проблема. Послевоенным историкам прекрасно известно, что в померанской группировке немцев было около 30 дивизий (в эквиваленте), причем, откровенно говоря, ряд из них был сильно побит жизнью. Даже со всеми тыловиками это порядка 400 тысяч человек, менее тысячи танков, и часть из них на это направление немцы подтянули уже только весной, а не в феврале.  А у советских войск в Висло-Одерской операции два миллиона человек и семь тысяч танков и самоходок, основная часть из которых — у Жукова. Закрыться от удара с севера тысячей танков и 300 тысячами человек было более чем реально. К тому же часть сил 2-го Белорусского фронта Рокоссовского тоже оказывала, пусть и умеренное, давление на немецкие силы в Померании. На штурм Берлина, где в феврале 1945 года почти не было сил, Жуков все еще мог выделить тысячи танков и сотни тысяч человек. Почему же он этого не сделал? В его мемуарах ответ на этот вопрос не найти. И скоро мы поймем, почему. Забивание шурупов молоткомО причинах крайне нетипичной для Жукова сдержанности в феврале 1945 года можно догадаться, если почитать про то, что в эти дни происходило на плацдармах его фронта за Одером, в 70 километрах от Берлина. А происходило там примерно следующее. Противник сначала час молотит артиллерией и тучами самолетов — немцы здесь сделали пять тысяч самолето-вылетов в пару дней начала февраля — в итоге от противотанковой батареи остается одна пушка. А у той — целых 13 снарядов. «Командир пушки» долго думает перед каждым выстрелом: а стоит ли оно того? Промажешь — и дальше будешь стрелять в танки из пистолета. Сами собой возникают вопросы. Ладно, допустим советская авиация и в 1945 году не очень хорошо справлялась с немецкой, в этом материале мы подробно объясняли почему. Но артиллерия? У 1-го Белорусского фронта было 20 тысяч артсистем. Как так вышло, что противник легко обстреливал его войска и спокойно бомбил их? Где была их мощнейшая артиллерия, включая зенитную? Да, часть отстала, но и у передовых частей у Одера стволов было немало. Почему молчали, а не подавляли артиллерию противника контрбатарейной борьбой? Ответ на этот вопрос мы найдем в воспоминаниях заместителя командующего фронтом по тылу жуковского фронта генерала Николая Антипенко: «Обеспеченность войск боеприпасами и горючим ко времени выхода их на Одер составляла 0,3-0,5 боекомплекта и 0,5 заправки. Этого хватило лишь для ведения боев за захват и удержание плацдармов на Одере. Говорить, что в этой ситуации надо было идти безостановочно на Берлин, чтобы взять его 10-12 февраля, по меньшей мере легкомыслие». В норме 0,3-0,5 боекомплекта — это 18-30 снарядов. На несколько часов интенсивного боя. Это — реальная причина из тех, по которым Жуков боялся закрыться с севера частью сил и основными идти на Берлин. Войск у немцев в Берлине еще мало, но снарядов прилично, там их склады. А что толку от советских пушек и танков без снарядов и солярки? Прежние вопросы сменяет другой: кто вообще додумался наступать с таким снабжением?  Антипенко не скрывает: никто. Вообще-то Висло-Одерскую операцию планировали нормально, по-людски и заблаговременно. Еще в октябре 1944 года фронт подал в Ставку план по обеспечению будущего наступления, и план разумный: основную железную дорогу Варшава — Лодзь, на правом фланге будущего удара, в ходе наступления надо было перепрошить на русскую колею. По ней, естественно, предполагалось пустить советские паровозы. Вспомогательную, однопутную железную дорогу на Демблин, шедшую по левому флангу фронта, можно было восстановить без изменения колеи. Сохранить ее узкой, европейской, предлагали, чтобы использовать трофейные паровозы и вагоны.  Обе дороги оставить на узкой колее было нельзя: чтобы перегружать десятки тысячи тонн снарядов и горючего, нужно как-то поднимать огромное количество грузов в сутки с советских вагонов у нашей границы, и перегружать на европейские вагоны по ту сторону границы. Таких систем просто не могло хватить для огромных нужд миллионного фронта. Однако инициативу фронта зарубил транспортный комитет Государственного комитета обороны, а точнее — входящий в него нарком путей сообщения Лазарь Каганович. Способности этого деятеля еще в 1942 году привели его к увольнению с поста наркома, но затем Сталин решил дать ему второй шанс и вернул на наркомат. Как писал про Кагановича-транспортника генерал Андрей Хрулев: «Работа железнодорожного транспорта резко ухудшилась главным образом потому, что нарком путей сообщения не признавал вообще никаких советов со стороны сотрудников НКПС… Каганович… кроме истерики ничем не отвечал на эти предложения и советы».  / © В. Темин, РГАКФД Лазарь Моисеевич рассуждал просто: если перешивать на советскую колею, то ему придется отдать фронту часть своих паровозов. А отдавать свое он не любил, почему неоднократные обращения фронтов и зарубил. За столь же выдающиеся успехи во внутристрановых перевозках Кагановича сняли второй раз 20 декабря 1944 года. Но, к сожалению, его решение сразу отменить забыли.  Тем временем 14 января 1945 года фронт Жукова пошел вперед, по мере наступления восстанавливая главную железную дорогу в своем секторе на европейскую колею (ведь на перепрошивку не было ни приказа, ни средств). Это было не очень просто, потому что на западе рельсы крепили к полотну шурупами, а погода в том январе была с частым обледенением. Завинчивать обледенелые шурупы сложно, поэтому их часто забивали кувалдой. К 29 января — в рекордный срок! — дорогу восстановили. Правда, европейские железные дороги, не привыкшие к такому обращению, реагировали плохо: были случаи схода поездов. 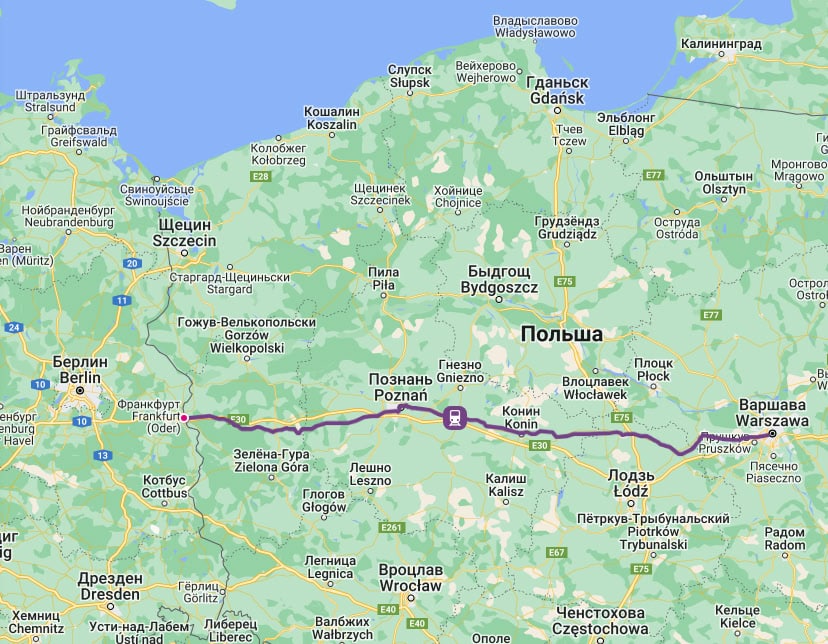 Но все это поблекло перед последующим. Ставка стала получать от всех фронтов сообщения, что перегружать вагоны с советских кусков дороги на зарубежные войскам нечем, поэтому надо перешивать европейские дороги на нашу колею и гнать по ним наши паровозы и вагоны. Недолго думая, она приказала срочно перешить основные «железки» в ходе наступления на советскую колею. 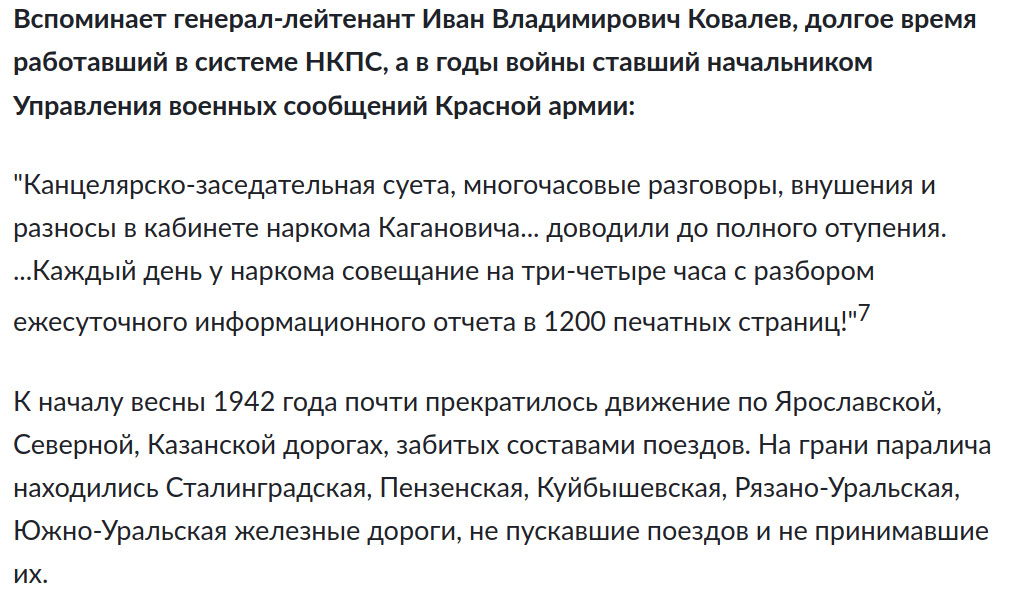 Только что забивавшие шурупы тыловики 1-го Белорусского стали всеми правдами и неправдами доставать их обратно (хотя с забитым шурупом это не очень просто) и перекладывать рельсы на другую ширину. С неимоверными трудностями все это было сделано. Но перешивка заняла еще две недели. До середины февраля никакие поезда по главной железной дороге фронта — готовой для движения еще 29 января — так и не пошли. 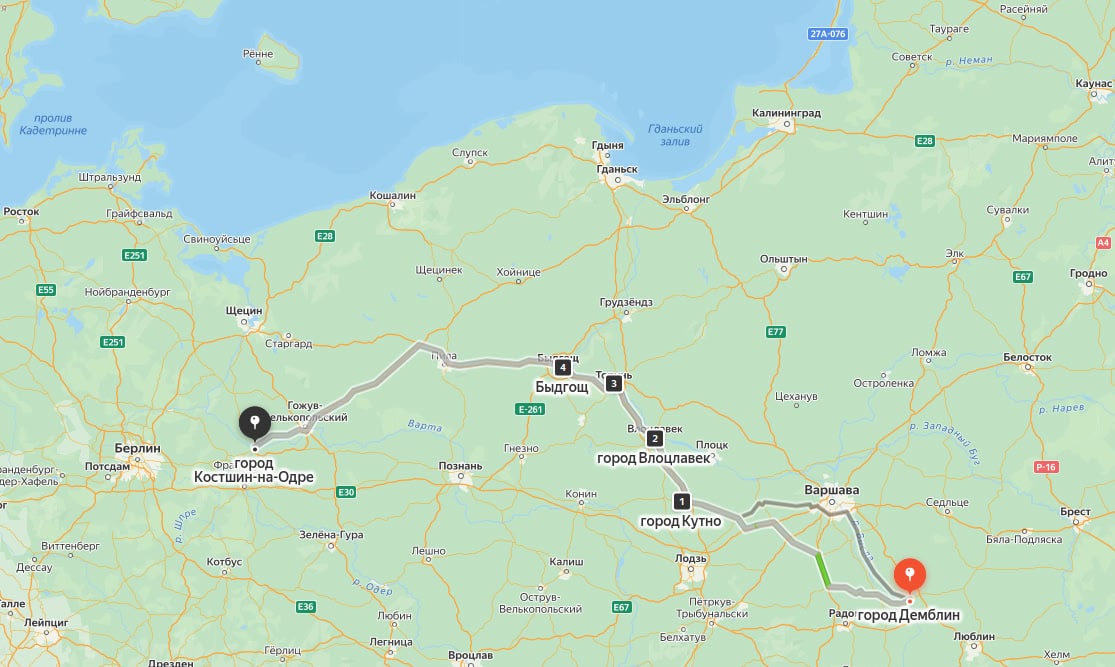 Но если ваши войска две недели сидели на голодном снарядном пайке, то быстро пополнить их запасы для достаточных для наступления двух боекомплектов не выйдет. Нужна пара недель. А за это время немцы подтянули побольше войск и к Берлину, и в Померанию. Наносить сходу удар на немецкую столицу стало слишком поздно: никакого «сходу» после трех-четырех недель стояния на плацдармах за Одером уже не было. Немцы окопались и создали прочную оборону. Пришлось долго и упорно готовить куда более крупное и кровавое наступление, ставшее известным как Берлинская операция.
Теперь, когда мы знаем всю эту историю, не приходится спрашивать себя: а почему в начале февраля 1945 года советские войска на Одере остались с 13 снарядами на восемь танков противника? Почему их полевая артиллерия в основном молчала, а танки и самолеты не видели горючего вовремя? Все просто: товарищ Сталин решил дать наркому Кагановичу еще один шанс. И в итоге непреднамеренно дал его Гитлеру. Не только КагановичНо не стоит винить Лазаря Моисеевича слишком сильно. На самом деле, был еще один виновный в том, что взять Берлин в феврале 1945 года не удалось: Верховный главнокомандующий. Дело в том, что в 1942-1944 годах Жуков, формально не будучи главой Генштаба, серьезно влиял на все принимаемые планы. И потому, что начальник ГШ Александр Василевский был его другом, и потому, что как заместитель верховного главнокомандующего имел весомое слово по поводу планирования стратегических наступательных операций. А в ноябре 1944 года Сталин решил его с этой должности снять и поставить на 1-й Белорусский фронт. Почему, точно не известно. Но сам Жуков думал, что Сталин хотел, чтобы операции финального периода войны прошли под его единоличным руководством. Без слишком норовистых заместителей главнокомандующего.  Вдобавок Василевский, формально будучи начальником Генштаба, реально был в разъездах на фронтах, «помогая» их командующим. В итоге оперативное планирование осталось на молодом и покладистом Алексее Антонове, что означало — по сути на Сталине, идеи которого Антонов оформлял и детализировал. В результате ГШ принял ряд странноватых решений. Например, Жуков в том же ноябре 1944 года предложил Сталину взять две армии у прибалтийских фронтов, которые блокировали прижатые к морю немецкие группировки в Прибалтике, давно отсеченные на суше от остальных немецких сил. Предложение имело большой смысл: наступлений в Прибалтике советские войска толком не вели. А эти две армии Жуков предлагал бросить на Восточную Пруссию, чтобы зачистить ее от немцев до начала наступления в Польше, будущей Висло-Одерской операции. Не объясняя причин, Сталин это предложение отклонил. Но самые странные решения Ставки (читай: Сталина) были, конечно, впереди — и касались они как раз Висло-Одерской операции. По исходному плану в ней воевали три советских фронта: Константина Рокоссовского (2-й Белорусский) сильно севернее Варшавы, Жукова («напротив» Варшавы) и Конева (в южной Польше).  И 13-20 января 1945 года все так и шло: 2-й Белорусский наступал на запад. У Рокоссовского было существенно меньше сил, чем у соседей с юга — только 0,88 миллиона человек, плюс не лучшая местность, поэтому его войска набрали высокий темп наступления на запад только к 19 января 1945 года, а не 16-му, как у Жукова. Все же прорыв был достигнут, началось быстрое продвижение. Впрочем, тут же кончилось: из Ставки вдруг позвонили и сказали, что концепция изменилась. Оказывается, сил у 3-го Белорусского фронта, который севернее фронта Рокоссовского, не хватает, и он в одиночку Восточной Пруссией овладеть не может. Конечно, сил хватило бы, если Ставка приняла предложение Жукова о двух армиях из Прибалтики, но об этом Рокоссовскому говорить не стали. Зато сообщили другое: он теперь наступает не на запад, а на север, отсекая восточно-прусскую группировку немцев от моря. А потом — на восток, помогая 3-му Белорусскому фронту ее уничтожить. «Пожалуй, и падение Берлина произошло бы значительно раньше»Конечно же, на практике нельзя взять и развернуть только что вошедший в прорыв фронт «вокруг компаса» без тяжелых последствий. И они немедленно наступили: удар на север никто не готовил, части были не в той конфигурации, пока их перестраивали, противник сам успел начать переброску резервов навстречу фронту Рокоссовского, и так далее. В итоге тот вышел к Балтийскому морю и отсек Восточную Пруссию по суше, но зачем — это вопрос, на который историки и сегодня не могут ответить.  Дело не только в том, что в силу умеренного качества командных кадров советских ВВС и флота немцы быстро и с небольшими потерями перевозили боеприпасы и солдат по Балтике (Гитлер даже отмечал, что это получается быстрее, чем железной дорогой). Вопрос в другом: а что, собственно, случилось бы плохого, если бы Восточную Пруссию просто оставили не взятой? Если бы фронт Рокоссовского продолжал идти на запад, к Берлину? Естественно, в случае взятия Берлина кровавый штурм Восточной Пруссии не был нужен вовсе: немцы сдались бы там и так. Без единого выстрела, как они сдались на своих плацдармах в Прибалтике в мае 1945 года.  Рокоссовский не скрывал, что он думал обо всем этом, так сказать, планировании: «Если проводимые Ставкой до этого [пока заместителем Главкома был Жуков — прим. ред.] крупные наступательные операции, в которых участвовало одновременно несколько фронтов, можно было считать образцом мастерства, то организация и руководство Восточно-Прусской операцией вызывают много сомнений. Эти сомнения возникли, когда 2-му Белорусскому фронту Ставкой было приказано 20 января повернуть… на север и северо-восток для действий против восточнопрусской группировки противника вместо продолжения наступления на запад. Ведь тогда… войска уже прорвали оборону противника и подходили к Висле в готовности форсировать ее с ходу. Полученная директива фактически в корне меняла первоначальную задачу фронту, поставленную Сталиным». И далее еще жестче: «К Ставке я имею право предъявить законную претензию в том, что, ослабляя фронт перенацеливанием главных сил на другое направление, она не сочла своим долгом тут же усилить 2-й Белорусский фронт не менее чем двумя армиями… для продолжения операции на западном направлении. Тогда не случилось бы того, что… на участке 1-го Белорусского фронта… его правый фланг повис в воздухе из-за невозможности 2-му Белорусскому фронту его обеспечить. Пожалуй, и падение Берлина произошло бы значительно раньше…»  Иными словами: раздергав фронт, только что прорвавшийся на одном направлении, на два других, Ставка и в Восточной Пруссии фронт нормально не прорвала, и правый фланг 1-го Белорусского фронта оголила буквально на сотни километров. Просто потому, что 2-й Белорусский, который должен был этот фланг прикрывать, пошел вообще в другую сторону. 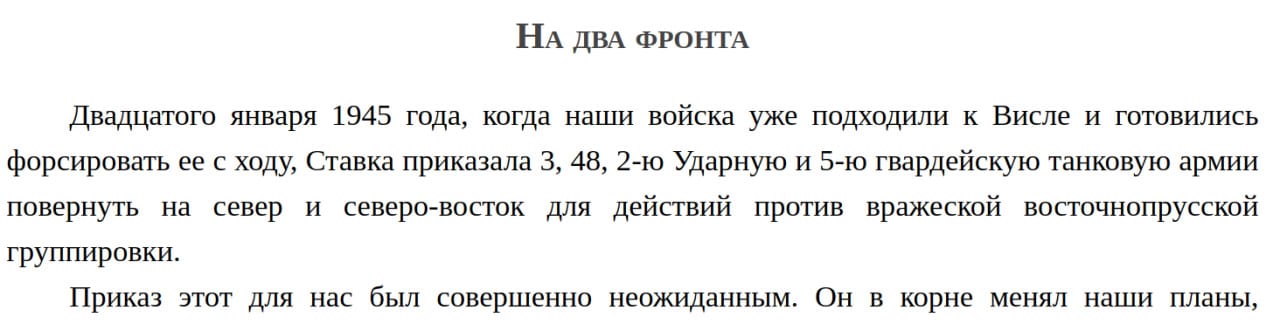 Не то чтобы Сталин был необучаемым. К 8 февраля он понял, что Пруссию Рокоссовский импровизационно не возьмет, а Жукова оголили прилично. Поэтому Рокоссовскому сказали: а теперь ваш фронт снова наступает на запад. Так за три недели фронт Рокоссовского наступал аж в три разные стороны света — но, ожидаемо, ярких и действительно важных успехов так нигде и не добился. Если бы Ставка не изображала из себя известное животное, неспособное сделать какой-то один выбор и держаться его, Берлин все еще можно было бы взять в феврале. Да, из-за аналогично абсурдных решений по железной дороге войска Жукова за Одером в начале февраля были на голодном снарядном пайке. Но если бы в это время Померанию зачищали три четверти миллиона солдат Рокоссовского, 400 тысячам немцев там было бы точно не до ударов в правый фланг Жукова.  То есть Георгий Константинович мог бы не распылять начавшие поступать боеприпасы и на берлинское направление, и на Восточную Померанию, а собрать их в одном месте — ближе к Берлину. И тогда даже роковая задержка на 15 суток с главной железной дорогой его фронта не сорвала бы быстрое взятие Берлина. Напомним: с 10 февраля крупная группировка фронта Жукова, 360 тысяч человек, за тысячу танков, начала наступать на померанскую группировку противника. И наступала до 4 апреля 1945 года. То есть на одну ударную группировку существенной силы боеприпасов у Жукова точно хватало, даже несмотря на ожесточенные бои при обороне плацдармов на Одере. У Берлина 10 февраля 1945 года не было 400 тысяч немецких солдат, и там советское наступление все еще имело бы шансы на успех. С бoльшими потерями, чем если бы не было срыва снабжения по железной дороге из-за решения Ставки 29 января 1945 года. Но все же имело. И в итоге потери были бы все равно меньше, чем после откладывания взятия Берлина до апреля 1945 года, как получилось на практике. Подведем итоги. Было ли в силах советских генералов спланировать боевые действия так, чтобы избежать забивки шурупов кувалдой, их последующего выдирания с мясом, а равно и дерганий фронта Рокоссовского чуть не во все стороны света? Да. Более того: они именно так всё и предлагали сделать. Просто мнения, по сути, гражданских лиц — наркома Кагановича и главнокомандующего Сталина — поставили выше предложений военных. Цена за это уплачена немалая: если в Висло-Одерской операции фронты Жукова и Конева потеряли только 43 тысячи убитыми, то в импровизированной Восточно-Померанской в феврале — апреле 1945 года фронты Жукова и Рокоссовского имели уже 55 тысяч убитых. Еще 81 тысяча погибла в Берлинской операции. Еще 126 тысяч — в Восточно-Прусской. Взятие Берлина в феврале 1945 года было вполне возможно без последней операции вовсе: даже при снятии из Восточной Пруссии всех немецких войск, они не успели бы к столице Германии вовремя. А потери уровня Восточно-Померанской операции как раз позволили бы Красной армии добиться февральского успеха с Берлином. Суммарные потери убитыми в той в войне могли быть ниже на 150-200 тысяч, даже не затрагивая ее меньшей длительности для узников концлагерей. Получается, Жуков был прав, что не пошел на штурм немецкой столицы в феврале 1945 года. С теми указаниями из Ставки — и его тыловикам, и Рокоссовскому к северу, — что получала Красная армия, такой штурм обернулся бы большими потерями. Без снарядов трудно стрелять из пушек, без солярки трудно завести танк. Но и Чуйков с Рокоссовским были правы, когда отмечали, что при ином руководстве со стороны Ставки Берлин в феврале 1945 года был вполне достижим. Проблемой оказалось то, что снарядов, солярки и вменяемых генералов стране тогда хватало, а вот грамотного заместителя Главкома в Ставке — уже нет. Все это могло бы быть неплохим уроком военачальникам нашего и будущих поколений. Увы, как отмечали еще во времена Жукова, редкий военный достаточно хорошо знает военную историю. Так что практическую пользу от этого урока не стоит переоценивать. | ↑ |
 Полярные льды рассказали о том, насколько свинец снизил интеллект римлянДревние римляне больше любого другого народа античности использовали свинец. Но среди историков нет единства относительно последствий этого. Одни ученые уверены, что широкое применение свинца должно было влиять на цивилизацию столь же негативно, как тетраэтилсвинцовая «эпидемия» в XX веке. Другие полагают, что жесткая вода блокировала стенки свинцовых труб и поэтому никакого массового отравления римлян свинцом просто не было. Новая научная работа привлекла образцы арктических льдов для решения вопроса. Оказалось, что даже без учета труб ситуация была очень непростой: ядовитым стал сам воздух. Современное человечество хорошо знакомо с губительным воздействием свинца: в 1920-х годах американский химик Миджли внедрил тетраэтилсвинец как присадку к автобензинам. Зная, что это вещество опасно, он смог переубедить публику, публично глотая его перед фоторепортерами, после чего тайно уезжал надолго лечиться. В результате его действий уже к середине века свинец стал глобально распространен в воздухе. IQ детей из-за этого стал на несколько пунктов ниже, чем должен быть, а их агрессивность сильно и пожизненно возросла. Процесс затронул миллиарды землян, а попытки честных ученых остановить использование тетраэтилсвинца привели к их « отмене» в академическом сообществе. Через пару десятилетий они все же победили, тетраэтилсвинец запретили, после чего преступность в развитых странах резко снизилась. Естественно, что после этого историки начали усиленно обсуждать, мог ли свинец энергично влиять на развитие более ранних цивилизаций. Римляне использовали свинец в покрытии посуды, как консервант для вина, материал для водопроводных труб, при изготовлении пуль для пращей и многого другого. Но измерить, насколько высоким был уровень загрязнения воды и воздуха в их эпоху, невозможно. Содержание свинца в скелетах тоже недостаточно информативно.  К тому же некоторые историки предполагали, что если у римской элиты свинца в организме было много (римлянки использовали косметику на его основе, аристократы пили разбавленное вино наравне с водой), то у большинства населения денег на косметику и вино не хватало. Трубы из свинца, типичные для Рима, при жесткой воде быстро покрываются кальцинированным налетом, блокирующим свинец и снижающим его уровень в воде. Подобные прецеденты хорошо известны по современным США, где свинцовые трубы все еще не удалось заменить до конца. Теперь исследователи из американского Института исследования пустынь решили узнать, каким был уровень загрязнения не в воде и еде, а в воздухе римского времени. Для этого они взяли образцы льда, полученного бурением во льдах Антарктиды и Гренландии и датированного периодом Римской республики и империи. Статья об этом опубликована в PNAS.  Свинец в разных месторождениях имеет разное соотношение изотопов. Поэтому авторам работы удалось надежно соотнести резкий подъем содержания свинца в воздушных пузырьках внутри льда именно с европейскими источниками. В древнем мире его содержание в воздухе достигло пика сперва в II веке до нашей эры — во время расцвета Римской республики. Затем, в I веке до нашей эры содержание свинца в воздухе резко падает: кризис республики и гражданские войны, по всей видимости, снизили возможность ведения нормального хозяйства, добыча руд, содержащих свинец, сократилась. С 15 года до нашей эры и до 165-185 годов нашей эры уровень снова поднялся до пика. За это время в атмосферу через горнодобывающую отрасль Римской империи попало более полумиллиона тонн свинца. Хронология здесь вполне объяснима: к 15 году до нашей эры император Август добился стабилизации экономической жизни после турбулентности поздней республики. Падение после 165 года тоже понятно: тогда по империи впервые прошла чума («Антонинова чума»), убившая десятки процентов ее населения. Судя по всему, с тех пор население Римского государства так никогда и не достигало пиковых значений первых двух веков нашей эры. Меньшее количество населения неизбежно означало и меньшую металлургию.  Уровень свинца времен римского пика мал относительно XX века, когда содержание его в воздухе было иногда в 40 раз выше. Но в сравнении с остальной историей человечества эти цифры велики. Например, в Европе такой же уровень свинца снова был достигнут только в 1000-1300 годах. Опираясь на работы о влиянии свинца на IQ детей XX века, авторы отмечают, что пиковые римские выбросы должны были снизить когнитивные способности и у людей того времени. Уровень снижения был в основном умеренным — на 2-3 единицы (при норме 100). Это выглядит не очень большой величиной, но, как отмечает один из авторов работы Натан Челлман (Nathan Chellman), «когда вы прикладываете это снижение к практически всему населению Европы, это большое дело». В то же время стоит отметить, что это именно средние значения. Типичное антропогенное загрязнение воздуха свинцом в Европе времен Римской империи было выше 1 нанограмма на кубометр, но у металлургических центров оно достигало 150 грамм на кубометр. Здесь снижение интеллекта у детей могло быть куда более серьезным. Дополнительно авторы работы отметили, что их цифры касаются только загрязнений для сельского населения без свинцовой посуды. Городское население Рима неизбежно чаще сталкивалось со свинцом: кроме посуды было еще и вино, а равно и другие факторы. Для элиты общества загрязнения были еще выше. Влияние свинца на их детей оценить сложно, поскольку образцы водопроводной воды и вина того времени в приполярных льдах, конечно, не сохранились. | ↑ |
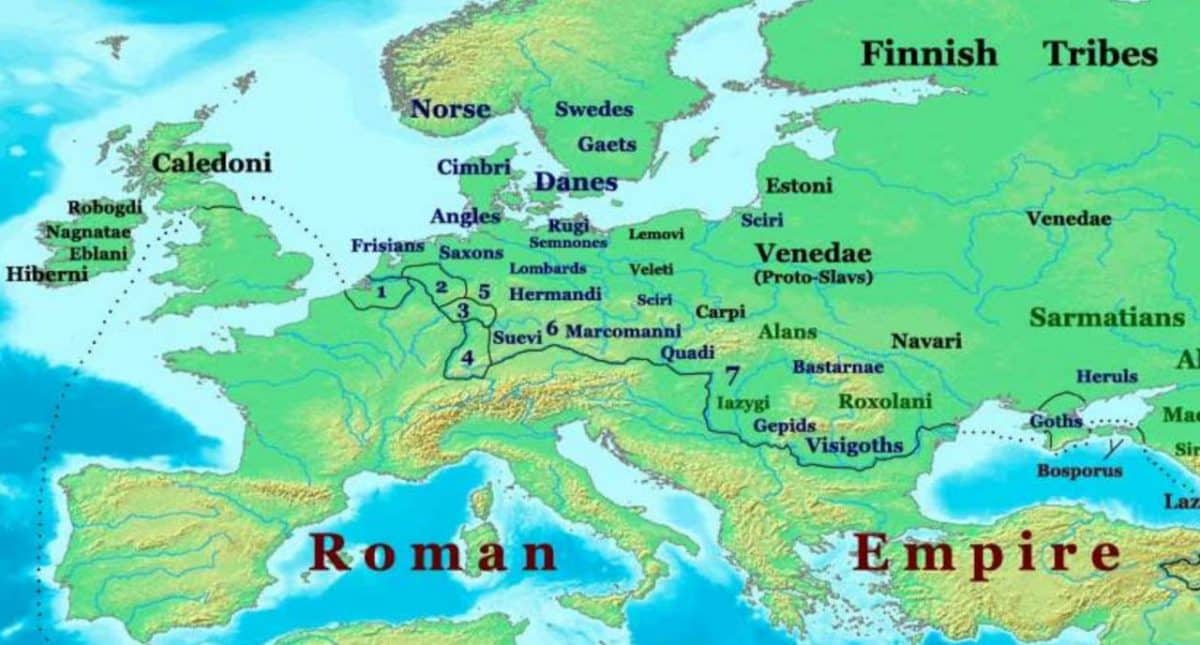 Генетики выявили неожиданную массовую миграцию в Скандинавию Темных вековПосле того как Европу несколько тысяч лет назад населили индоевропейские пришельцы, разобраться в последующих миграциях их потомков стало очень сложно. Почти все европейцы (конечно, до XXI века) происходят всего от трех отцов из бронзового века, отчего генетические различия между ними были невелики. Новый генетический метод решает эту проблему. В результате ученые отследили не только массовую миграцию готов в начале нашей эры из Скандинавии, но и несколько неожиданную обратную волну миграции накануне эпохи викингов — из Британии и Центральной Европы в Скандинавию. Около пяти тысяч лет назад степняки-индоевропейцы начали массовые вторжения в Западную Европу (но не только). Представители их восточной ветви (ямники) стали предками греков и армян, юго-западной — италийских и кельтских племен, северной — германских (потомки племен культуры шнуровой керамики). С этого момента у генетиков начинаются большие сложности с отслеживанием дальнейших миграций: генетически все эти люди по мужской линии всего 5-6 тысяч лет назад имели одних и тех же предков. Между тем, разобраться в этом периоде было бы неплохо, потому что племена к северу от Рима и Греции не имели своей письменности, и что там происходило — в общем-то загадка. Скажем, около 100 года до нашей эры тевтоны и кимвры едва не уничтожили Рим, но кем они были — спорят до сих пор. Кто-то считает их полукельтами, другие — германцами (хотя это скорее предположение Юлия Цезаря, чем факт), третьи, опираясь на Помпония Мела, утверждают, что они мигрировали из Скандинавии. 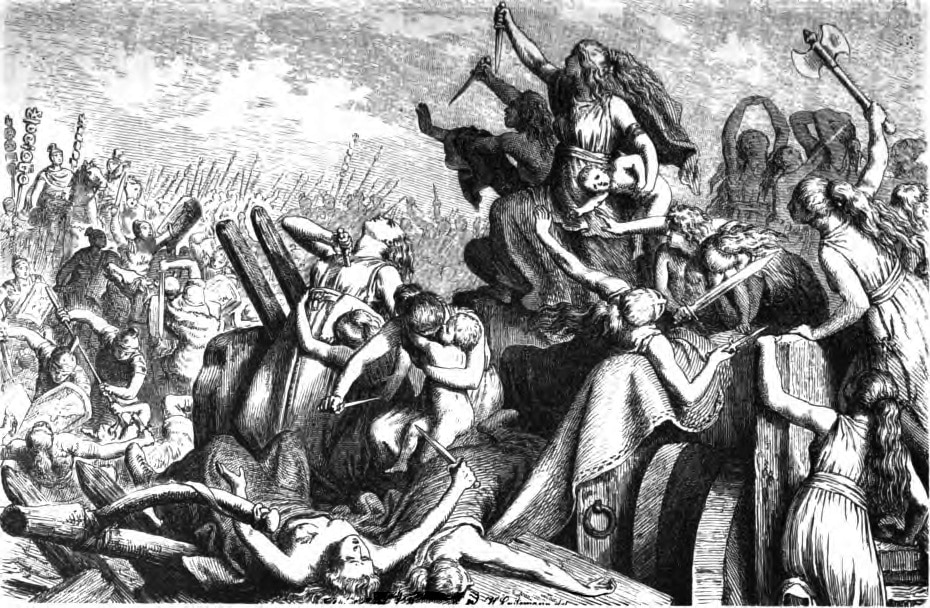 Сходная история с готами: предания этого народа сообщают, что они, около начала нашей эры, вышли из Скандзы (Скандинавии), переплыли Балтику, высадились у устья Вислы, откуда постепенно мигрировали через Днепр в Северное Причерноморье, где основали королевство готов. Потом, в результате ряда трагических событий, остготы захватили Италию, а вестготы — Испанию, попутно нанеся катастрофические удары Римской империи. Но многие историки веками оспаривали как скандинавское происхождение готов, так и более поздние элементы их истории. Теперь исследователи из Европы и Японии разработали метод Twigstats («Ветвестатистика»), основанный на сравнении генетических мутаций у разных людей — как современников из разных регионов, так и тех, кто жил в разные эпохи — и позволяющий установить генетические маркеры миграций даже внутри очень близких популяций, где почти все — дети всего двух-трех отцов, живших лишь несколько тысяч лет назад, то есть как раз для ситуации Европы после индоевропейского завоевания. Этот метод использовали авторы работы, опубликованной в журнале Nature. Всего они проанализировали геномы 1556 человек, живших в Европе в 1-1000 годах нашей эры. В первые 500 лет нашей эры из Скандинавии на юг шли массовые миграции: потомки скандинавов внезапно появляются на земле современной Южной Германии, Польши, Словакии, Италии и Южной Британии. Эти данные сочетаются с лингвистическими, по которым германские языки тогда имели три основные группы. Носители первой остались в Скандинавии, второй — вымерли полностью, третьи стали основой современного немецкого и английского. В ряде случаев скандинавские мигранты установлены генетиками раньше, чем они видны из исторических источников. Например, в Йорке нашли скелет крепкого мужчины II-IV веков нашей эры, который был скандинавом — хотя в этот момент там не было ни вторжения англосаксов, ни набегов викингов. Предположительно, это раб-гладиатор. Еще большей неожиданностью стали генетические данные за 300-800 годы нашей эры. Почему-то внезапно началось обратное движение: выходцы из Центральной Европы, в том числе германского происхождения, начинают массово мигрировать обратно в Скандинавию, откуда не так давно вышли их собственные предки. Причем по изотопам зубов ряда жителей скандинавского региона этой эпохи стало ясно, что как минимум часть из них родилась здесь, хотя (судя по ДНК) еще недавно их предки жили в германских землях на сотни километров к югу. Необычно то, что таких людей в это время — несколько десятков процентов всех изученных геномов на территории Дании и Швеции к 800 году нашей эры. Скажем, в Дании 25 из 53 проанализированных геномов в этот период показывают происхождение от центральноевропейских предков То есть обратная миграция с юга на север была по-настоящему массовой. Причины ее совершенно неясны, поскольку Скандинавия тогда — довольно глухая, небогатая и прохладная часть Европы. С другой стороны, Центральная и даже Южная Европа 300-800 годов нашей эры имели свои недостатки. В IV веке на востоке Европы появились гунны, нанесшие удары по государству готов, из-за чего те мигрировали на запад, в свою очередь вторгнувшись в Римскую империю. Трудно исключать, что какие-то племена бежали от гуннов и в других направлениях — не к Риму, а на север. В VI веке, вероятно, из-за миграции степных грызунов, вызванной вулканической зимой 536-541 годов, континент столкнулся с исключительно сильной эпидемией чумы, уничтожившей десятки процентов его населения. В условиях массовых эпидемий народы тоже могут мигрировать «куда глаза глядят», где, как им кажется, эпидемии еще нет. 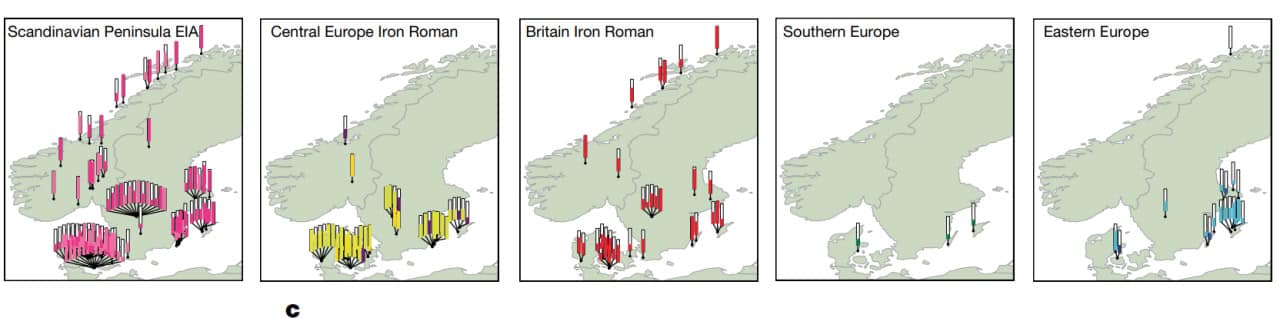 Наряду с этими мигрантами из Центральной Европы (в основном — в южную половину Скандинавии), отмечаются и неожиданные следы миграции из Британии в северную Норвегию. Причем, похоже, речь не просто о миграции каких-то англосаксов, в языковом и культурном плане близких к скандинавам: налицо гены доанглосаксонсого населения Британии. И вряд ли это были рабы, поскольку серьезная передача генов по мужской линии в этом случае малореальна. Есть и еще большая экзотика: в юго-восточной Швеции, в основном на острове Готланд, археологи нашли 14 скелетов, чьи предки по мужской линии — выходцы с территории современной Польши и Литвы (вероятно, из каких-то балтских племен). В письменных источниках той эпохи о таком движении ничего нет. Это, с одной стороны, неудивительно (варвары были неграмотными), с другой — делает новые открытия генетиков весьма важной, по сути уникальной информацией. Для периода после 800 года такой странный и незафиксированный источниками приток людей прекращается. Далее генетики видят то, что в исторических источниках есть: на территории Руси появляются люди шведского происхождения (варяги «Повести временных лет»), а в Англии — выходцы из Дании (викинги области Денло из англосаксонских хроник). Интересно, что в Британии значительная часть таких людей найдена в братских могилах, со следами насильственной смерти. На Руси есть и необычная находка XI века — останки выходца из Британии первого тысячелетия нашей эры (не викинга, возможно, англосакса). Выходцы из южных германских земель, осевшие в южной Швеции, в генах тех скандинавов, что находят на территории Руси, своих генетических следов почти не оставили. Получается, основная часть варягов Руси пришли из центральной и северной Швеции и Норвегии. | ↑ |
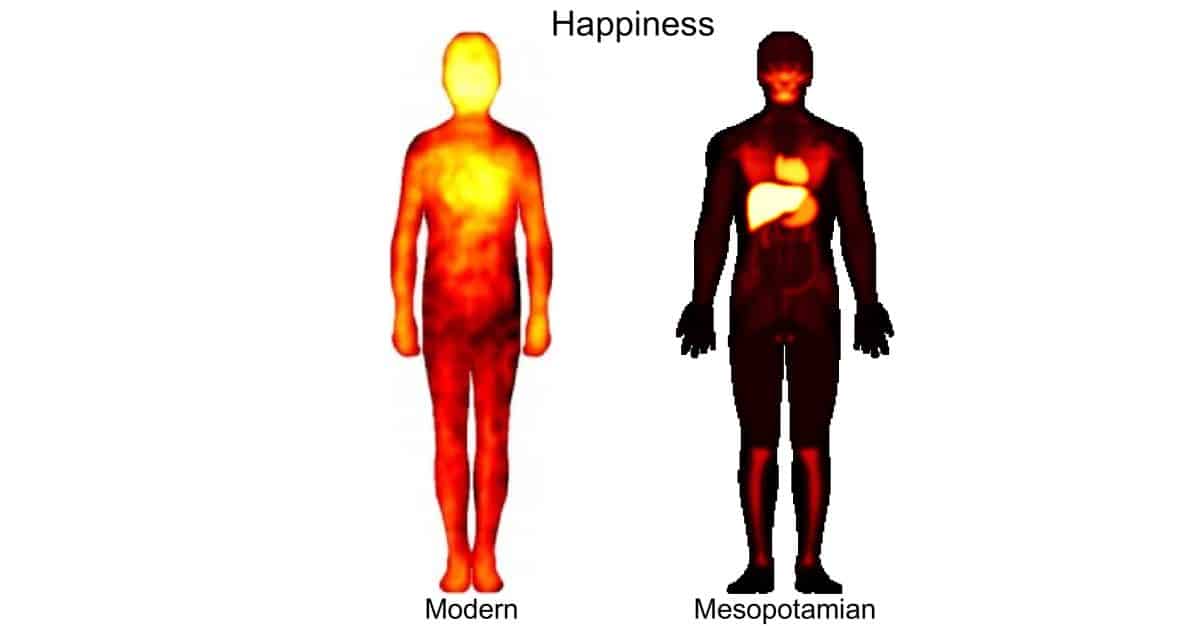 В какой части тела человек ощущает эмоции: ученые сравнили современных людей и жителей МесопотамииМеждисциплинарная группа исследователей проанализировала массив клинописных текстов, чтобы составить карты эмоций на теле жителей Новоассирийского царства. Оказалось, хотя счастье ассирийцы и современные люди ощущают примерно в одинаковых областях, гнев и любовь «переместились» по телу. Тело и мозг человека живут в непростых взаимоотношениях, а когда речь заходит об эмоциях, все становится еще сложнее. Исследователи точно знают, что эмоции напрямую влияют на организм, многие из них человек способен ощутить физически. Горе воспринимается как «разбитое сердце», влюбленность — как «бабочки в животе», гнев — как напряжение в челюсти, а стресс — как «железный обруч» на груди и голове. Но это современные представления. Всегда ли люди чувствовали — или хотя бы выражали и описывали — эмоции одинаково? Междисциплинарная группа исследователей обнаружила, что у жителей Месопотамии и современных людей представления о том, где «живут» эмоции, могут значительно различаться. Ученые проанализировали тексты Новоассирийского царства и выяснили, как люди ощущали эмоции в теле. Массив данных включал миллион слов на древнеаккадском языке, записанных на глиняных клинописных табличках, созданных с 934 по 612 год до нашей эры. Современные карты телесных ощущений эмоций собрали 10 лет назад исследователи под руководством Лаури Нумменмаа (Lauri Nummenmaa). Результаты научной работы описали в журнале iScience. В Древней Месопотамии люди уже обладали базовыми знаниями об анатомии, осознавали важность сердца, печени и легких. Эти органы, а также бедра и область рта упоминались как наиболее частые места, где человек ощущал эмоции. Карты телесных ощущений счастья у современных людей и жителей Месопотамии в значительной степени совпадают, за исключением того, что древние жители уделяли печени большее внимание. Счастье в текстах описывалось словами «открытый», «сияющий» или «полный». Различия между нами и древними особенно заметны в ощущениях гнева и любви. Современный человек ощущает гнев в верхней части тела и руках, тогда как у жителя Месопотамии он выражался через «жар», «ярость» или «раздражение» в ногах. 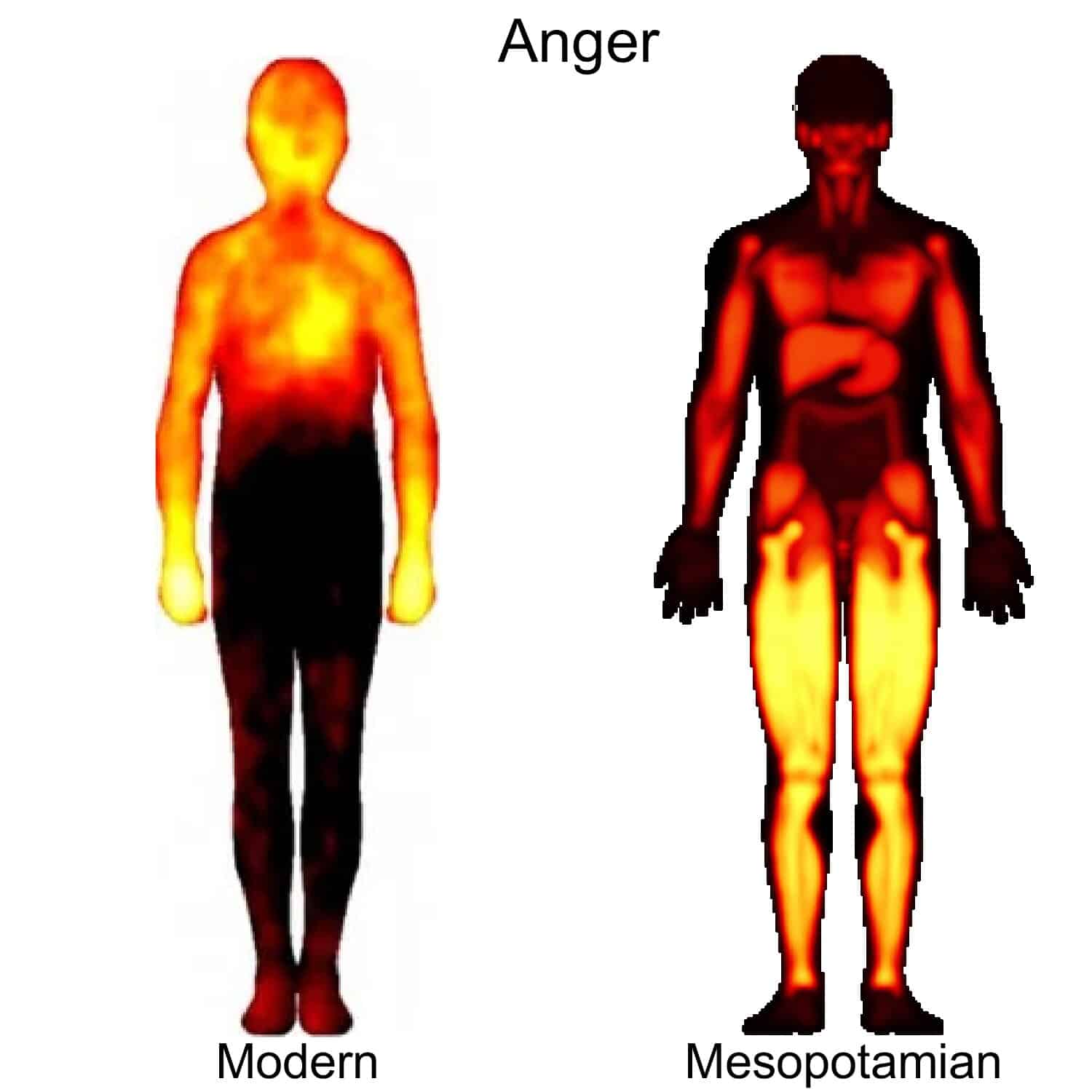 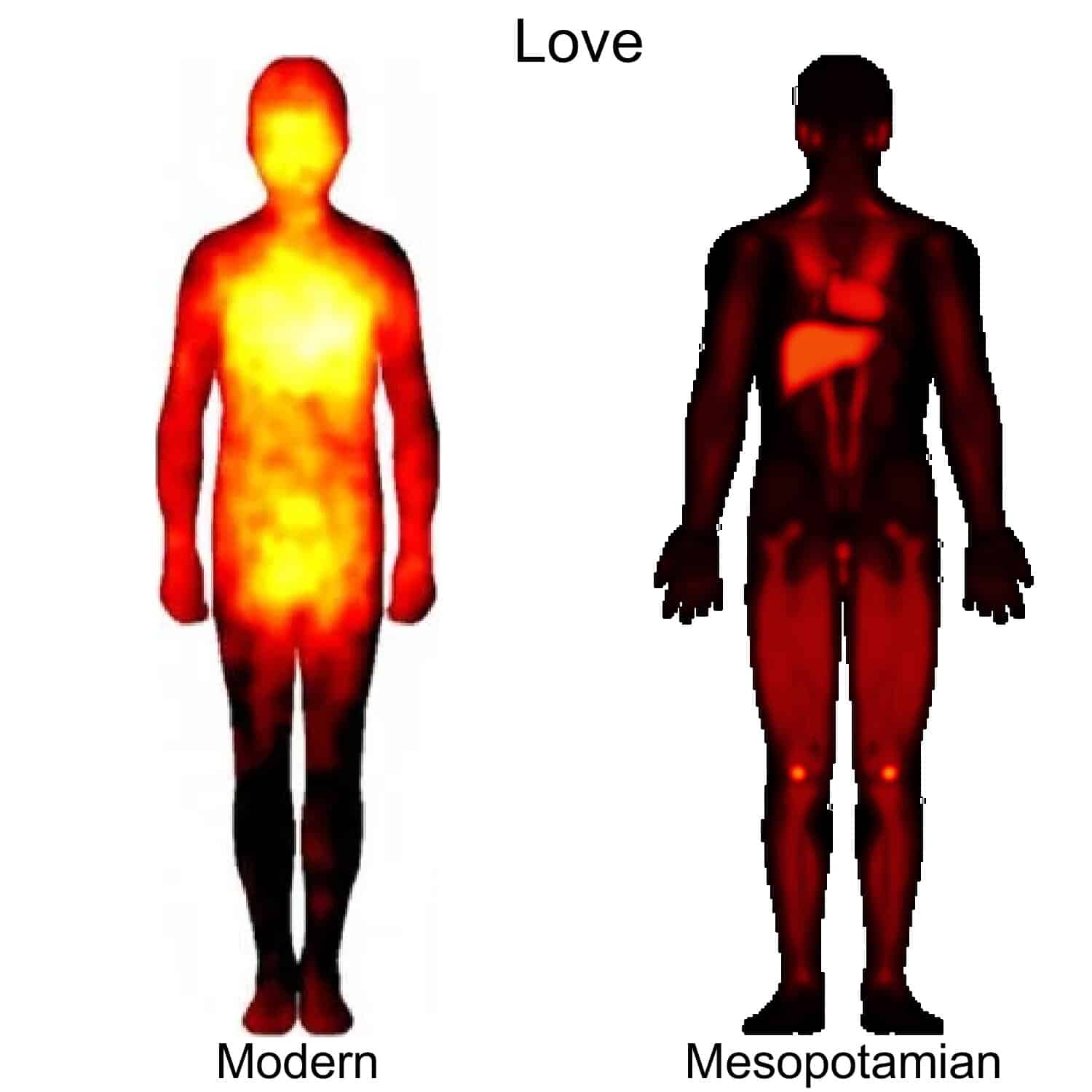 Любовь же ощущается нами схожим образом: она сосредоточена в грудной области. Однако в Месопотамии любовь особенно ассоциировалась с печенью, сердцем и коленями, в то время как у современных людей ощущения смещены в область головы и гениталий. Отметим, что клинопись создавали в основном писцы по заказу представителей богатых слоев общества, поэтому тексты не дают полной картины восприятия эмоций у всех жителей Месопотамии. Тем не менее клинописные глиняные таблички хранят разнообразные тексты: налоговые списки, документы о купле-продаже, молитвы, литературные произведения, а также исторические и математические записи. Вместе они предоставляют достаточно широкую описательную базу. «Еще предстоит выяснить, можно ли говорить о типичных для всего человечества эмоциональных переживаниях и всегда ли, например, страх ощущался в одних и тех же частях тела. Также необходимо помнить, что тексты остаются текстами, а эмоции — это опыт, который проживается в моменте», — подчеркнула профессор Саана Свярд (Saana Svard) из Хельсинкского университета в Финляндии, ассириолог и руководитель проекта. Ученые отметили, что хотя сравнение таких данных увлекательно, необходимо учитывать различие между современными картами тела, основанными на самоотчетах, и картами тела древних месопотамцев, построенными исключительно на лингвистических описаниях. | ↑ |
 Раскрыта технология создания небесного диска НебрыУникальный артефакт возрастом более 3600 лет считают древнейшим точным изображением неба в истории человечества. Ученые много лет задаются вопросом, как в бронзовом веке удалось создать настолько искусный образец художественной ковки. Чтобы разобраться в этом, они попросили опытных мастеров изготовить копии этого небесного диска. Небра — город в центральной части Германии, примерно в 60-70 километрах от Лейпцига. Именно там в 1999 году нелегальные охотники за сокровищами нашли небесный диск. Он лежал в древнем захоронении вместе с бронзовыми мечами, топориками и великолепными браслетами. В этом месте расположено целое городище бронзового века. Находки датировали примерно 1600 годом до нашей эры. Археологи заподозрили, что металлическую карту звездного неба на самом деле изготовили на пару сотен лет раньше. Это значит, что ее хранили и передавали из поколения в поколение. Сам диск по составу в основном медный с небольшими добавками олова, никеля, цинка и мышьяка. Предположительно, для придания фону цвета неба его обрабатывали специальными растворами, это называется патинированием. Инкрустация — золотая.  Помимо легкоузнаваемых изображений Солнца, Луны и разрозненных звезд, на небе распознали рисунок созвездия Плеяд, а дуга с правого края оказалась свидетельством того, что люди бронзового века вели астрономические наблюдения: она описывает угол между положением нашего светила в дни летнего и зимнего солнцестояния. Если присмотреться, с левой стороны можно заметить след от точно такой же дуги. Она, очевидно, не сохранилась. Что означает еще одна дуга внизу, не совсем ясно. Исследователи допустили, что так могли изобразить лодку, Млечный Путь или радугу. Они пришли к выводу, что изначально диск имел чисто научный смысл, но потом его узоры стали рассматривать больше как мифологические символы. В те времена такое можно было изготовить точно вручную, поэтому ученым было интересно, как именно сделан хотя бы сам диск. В диаметре он почти 32-сантиметровый, толщина составляет 4,6 миллиметра в центре и 1,5-1,8 миллиметра по краям. Изначально отлить его таким было невозможно, заверили исследователи из Германии в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports. Они посчитали, что изделие выполнено из компактной линзовидной литой заготовки.  Ученые решили воспроизвести процесс изготовления небесного диска и обратились к кузнецам. Тем удалось сделать несколько реплик шедевра, в процессе изготовления проследив всю базовую технологию его создания. Оказалось, древние мастера должны были постепенно превращать толстую заготовку в тонкий диск с помощью ударов молота определенным образом: нужно было бить, двигаясь по спирали, от центра к краю. Заготовка при этом должна была быть раскаленной, но в процессе ковки быстро остывала. Поэтому нагрев примерно до плюс 700 градусов Цельсия и серию ударов молотом пришлось повторить в общей сложности 10 раз. Более того, для достижения требуемого вида диска понадобились молоты разного веса — сначала пятикилограммовый, потом более и более легкие. Кузнецы XXI столетия выразили восхищение тем, как было развито искусство обработки металлов еще в начале бронзового века. | ↑ |
 Ученые испытали ацтекские свистки смерти на современных людяхЧетверть века исследователи спорят, для чего ацтеки использовали небольшой музыкальный инструмент в виде черепа. Одни утверждают, что его звуки пугают людей, другие слышат в нем всего лишь шум ветра. Авторы новой научной работы проверили, как наши современники реагируют на звуки свистка смерти. Первый предмет, который позже назвали свистком смерти, археологи нашли в 1999 году, при раскопках храма в древнем городе Тлателолько (Мексика). В гробнице обнаружили останки молодого человека, которого, скорее всего, принесли в жертву. В руке убитого был зажат маленький свисток в форме черепа, сделанный из глины. С тех пор различные исследовательские группы нашли множество других таких предметов — в основном в ацтекских гробницах, датируемых 1250-1521 годами. Очень часто они входили в погребальный инвентарь жертв ритуальных убийств. Первую находку сочли простым ритуальным украшением, но когда их стало много, то выяснилось, что отверстия в этих предметах сделаны одинаково — как в музыкальных инструментах. Ученые попытались извлечь из них звуки и оказалось, что мнения слушателей о звучании необычного инструмента сильно расходятся. 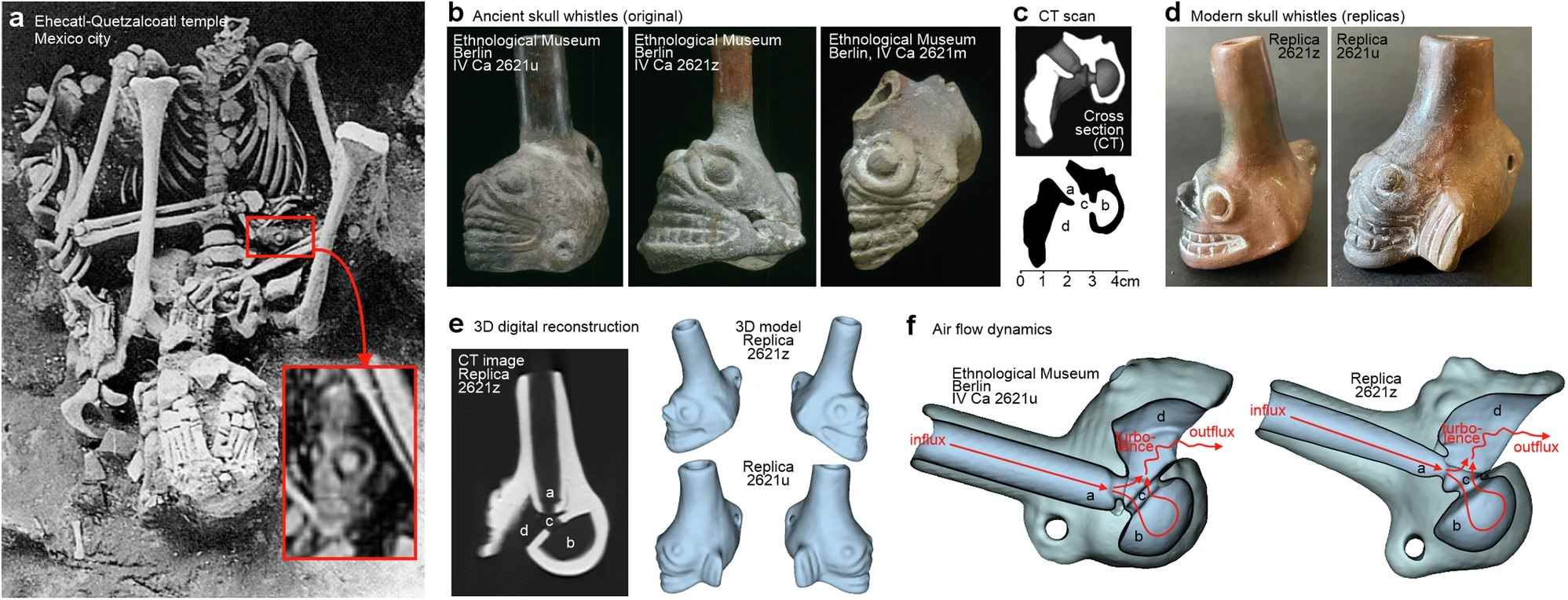 У одних такие звуки вызывали необъяснимый страх, другие принимали это за воинственный крик человека, а кто-то вообще слышал только шелест ветра. Ученые из Цюрихского университета (Швейцария) решили узнать, как человеческий мозг реагирует на звуки, издаваемые этими уникальными свистульками. Статья с результатами их работы опубликована в журнале Communications Psychology. Для исследования набрали добровольцев, которых попросили послушать свист ацтеков. Что за предметы издают эти звуки, экспериментаторы не объяснили, то есть люди не знали о специфической истории и названии музыкального инструмента. В подлинные древние свистки смерти дуть, конечно, никто не стал. Существуют видео- и аудиозаписи, которые делали археологи и первые испытатели свистков. Авторы новой работы обратили внимание, что в настоящие свистки всегда дули со средней силой. Но нам совершенно непонятно, как сильно в них нагнетали воздух ацтеки. Поэтому, кроме аудиозаписей оригинальных свистков, ученые сделали еще записи звуков, извлеченных из хорошо выполненных реплик. В них дули с разной силой, создавая как низкое, так и высокое давление воздуха в свистке. Добровольцам дали послушать полученные звуки, при этом наблюдали за их мозговой активностью. После прослушивания людей попросили описать свои ощущения. Оказалось, эти необычные инструменты издавали звуки, которые слушатели воспринимали как неприятные и пугающие. Страх, испытанный добровольцами, был настолько сильным, что заставлял их забывать о насущных делах и немедленно реагировать на опасность. Приборные наблюдения за работой мозга совпали с этим описанием. Когда раздавался свист, участники эксперимента ощущали повышенную активность в слуховых отделах мозга. В то же время мониторинг мозговых волн показал, что слуховая кора была приведена в состояние повышенной готовности, то есть мозг воспринимал звуки свиста как угрожающие. 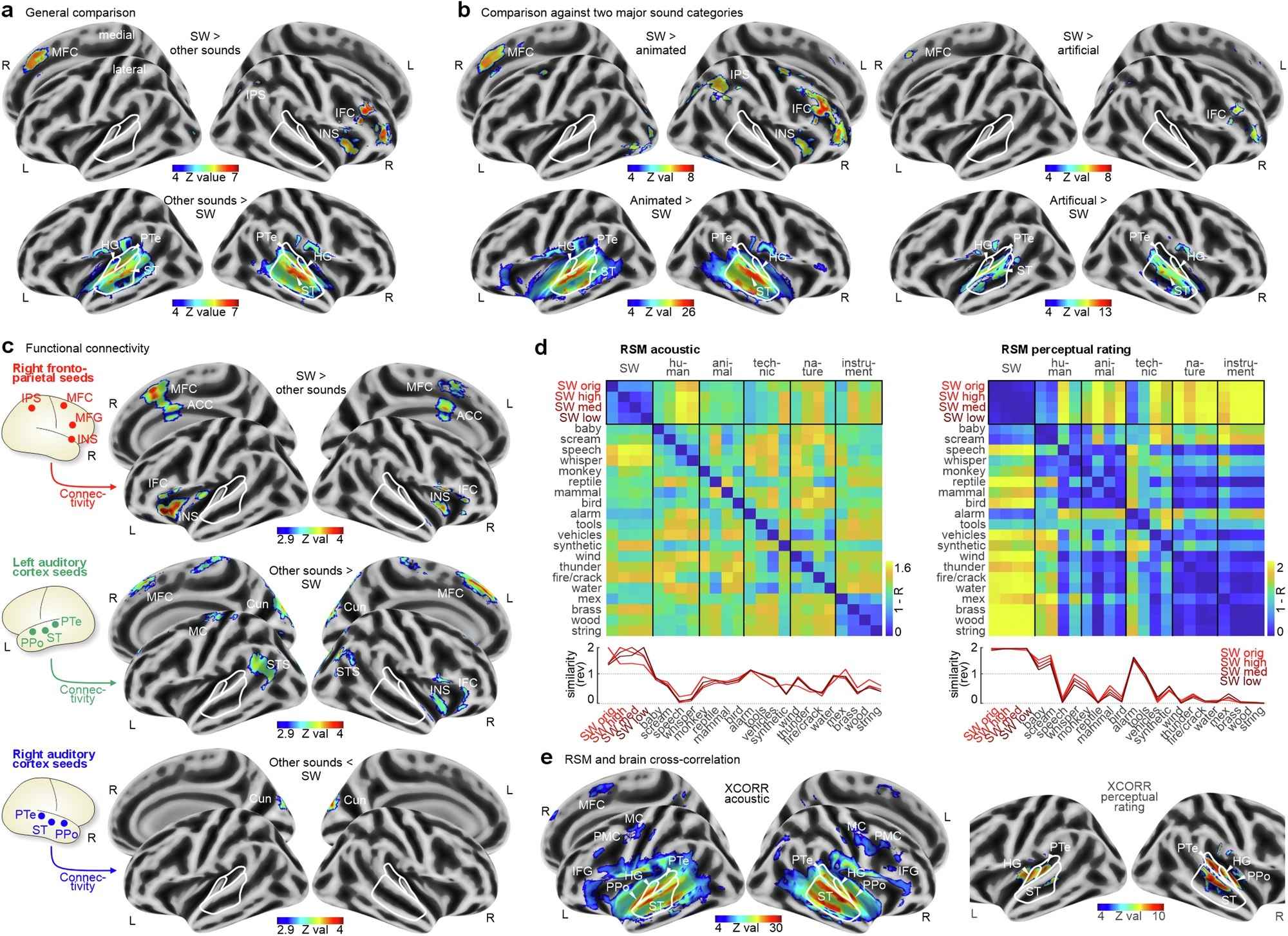 Исследователи считают, что ацтеки понимали пугающую природу свистков в форме черепа и находили способы использовать это в своих интересах. Вопрос: как именно? Ранее, после первых экспериментов со свистками, некоторые археологи предположили, что ацтекские воины дули в них на поле боя, запугивая врагов. Результаты исследования швейцарских ученых такое применение практически исключают: звуки одинаково действуют на всех людей, запугивая и врагов, и друзей. Авторы статьи посчитали, что, скорее всего, свистки использовались в ритуальных и церемониальных целях, поэтому неслучайно их чаще всего находят в захоронениях жертв ацтеков. Учитывая то, что было обнаружено о влиянии свистков на человеческий мозг, возможно, в них дули во время жертвенных ритуалов, чтобы отпугнуть злых духов или другие виды темных сил, которые могли напасть на умершего при переходе на другую сторону. | ↑ |